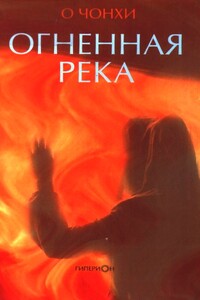Но сердце его чуть не лопнуло от злости и досады, когда он увидел прямо перед своим носом сына своего Петра. Малец опрометью выскочил из палисадника и понесся во все лопатки по улице – подальше от отцовского гнева. Босые пятки ещё долго гулко тупали по утрамбованной тропке…
Немного успокоившись, Акимка стал думать – а что, если сын его в потемках и не распознал? Так и ладно. Решил виду не подавать, что сам Петра видел, в палисаднике застал. Пусть думает, что обознался, если вдруг видел его в лицо. А про себя с досадливым удивлением подумал:
– Глянь-ка, и Пятро азаравать мастак!
Но всё же тревога не оставляла его. А вдруг станет Петр ему намеки разные делать? Тогда что? Ну, тогда уж он найдет, чем сына застращать! Будет молчком молчать, не рыпнется!
И уже окончательно успокоившись, Акимка с предосторожностью покинул наблюдательный пост. Однако уже на следующий день вернулась назойливая мысль – что это за справу Мария по ночам справляет? Подкараулив её в проулке, он, загородив проход, спросил прямо, без экивоков:
– Что свет по ночам палишь, красуня?
– Адчапися, – как всегда в таких случаях, ответила Мария и, оттолкнув его руку, прошла мимо.
Однако Акимку такая манера только раззадорила. Он резко схватил её за локоть и притянул к себе. Мария стала, как вкопанная. Лицо её сделалось пунцовым, на лбу выступили капельки пота.
– Так, так, так… – покачал головой Акимка, наклоняясь к самому её лицу. – Никак, бабонька, тебя лихоманит?
– Пусти, антихрыст! – прошептала зло и беспомощно женщина. – Пусти!
– Ага, баба, что-то не тае! Говори правду, кто у тебя там? Кого скрываешь от людей? Гляди, проверю! И ничто тебя уже не спасет, ни забор высоки, ни собака злая…
Он отпустил локоть Марии и стоял перед ней, подбоченясь и пряча злую ухмылку в усах. Он видел, как лицо женщины постепенно приобретает мертвенно-бледный вид. Губы её дрожали, глаза смотрели в землю.
Мария не зря испугалась.
Как-то поздним вечером, когда уже все дела были приделаны, дети спали, и она сама на покой собралась, в маленькое окошечко с огорода тихо постучали. Оконце было маленькое, почти, как в бане, без ставни, и Мария, прикрутив фитиль на керосиновой лампе, отогнула угол занавески, прислонилась к стеклу и стала вглядываться в ночную темь. Дурной человек так осторожно стучать не будет. Да ещё с огорода…
Никого не разглядев в потемках, она пошла в сенцы. Прислушалась, и ей показалось, что тихий, едва слышный стук повторился снова, но теперь уже стучали в дверь.
– Хто там? – едва слышно, срывающимся шепотом, спросила она. – Хтось шкрабецца, а голасу не падае…
Однако во дворе, за дверью, опять промолчали. Она ещё раз переспросила, на этот раз чуть громче, и хотела уже уходить, подумав – со страху помстилось, как ей тут же ответил из-за двери испуганный шепот:
– Открой, Мария, Христом Богом прошу, открой! Пусти в хату! Родненькая, пусти!
Мария поспешно перекрестилась. Это был голос её соседки по меже, их огороды сходились на задах, а сам дом её был на другой улице.
«Прынесла нялёгкая!» – подумала с досадой она, но крючок всё же откинула.
– Чаго табе? – спросила через щель, крепко придерживая дверь рукой и не впуская ночную посетительницу.
– Мария, золотко, пусти! Не дай погибнуть несчастной душе! – сказала просительница и всунула ногу в щель между дверью и косяком.
– Заходь, – неохотно сказала Мария после длинной паузы.
В сенцы тенью скользнула худенькая женщина. Это была Дора. Молодая еврейка незадолго до войны переехала в Ветку из Гомеля, поговарили, сбежала от нелюбимого жениха. С Марией они знались больше «по меже», когда соседская курица в её огород забредет или кому траву косить на общем участке, ещё какие мелочи…
Муж Доры ушел на фронт, пятилетнего сына она ещё в самом начале июля отправила к родне под Брянск, уж туда немцы точно не пройдут! Отец Доры умер за три года до войны, от крупозного воспаления легких. Матери своей она вовсе не помнила – та умерла, когда девочка была грудной. Был ещё когда-то старший брат, лицо его она знала по фото, в девятнадцатом году его убили стрекопытовцы.