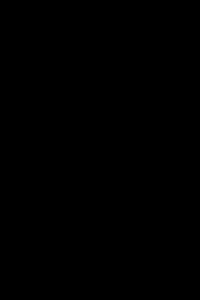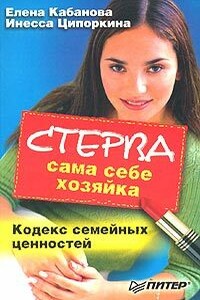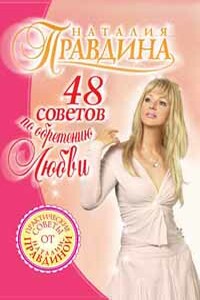Мысленный образ по своей природе является «личным», или «субъективным» переживанием, поскольку мы не можем непосредственно наблюдать образы, переживаемые другими людьми. Это утверждение в равной степени относится и к другим психическим явлениям, таким как ощущения, мысли и чувства. Мы узнаем о внутренних состояниях других людей, наблюдая за тем, что они говорят и что делают. Например, состояния боли или радости отражаются в поведении человека совершенно особым образом: на основании того, как человек держится за щеку и стонет, мы можем с уверенностью сказать, что у него болит зуб. Однако мы с той же уверенностью можем констатировать факт зубной боли, если человек сам сообщает: «У меня болит зуб» (Wittgenstein, 1958, p. 24). Конечно, и в том, и в другом случае можно столкнуться с притворством или симуляцией зубной боли, но это нисколько не умаляет того факта, что обычно мы узнаем о внутреннем опыте других людей через их вербальное или невербальное поведение.
Однако некоторые психические события никак не проявляют себя в поведении, и это справедливо, в частности, для мысленных образов. Как отмечал Квинтон (Quinton, 1973, р. 328), просто невозможно подобрать какой-то жест или позу, которая однозначно соответствовала бы образу Солсберийского собора. Конечно, человек, представляющий себе Солсберийский собор, ведет себя как-то по-особенному: он может иметь задумчивое выражение лица, его взгляд может быть направлен в какую-то малоинформативную зону пространства. Но по этим поведенческим знакам мы никак не сможем отличить мысленные образы другого человека от более абстрактных форм его мышления, и они ничего не скажут нам о содержании его образов. Таким образом, внешнее невербальное поведение не может служить надежной основой для проникновения в образный мир других людей. Поэтому мы попадаем в зависимость от их вербального поведения, то есть от их слов, а не от того, что они делают. С этого и начались научные исследования мысленных образов, а именно, с попыток собрать вербальные отчеты людей об их феноменальном опыте.
Опросник «Завтрак на столе» Гальтона
Самое первое исследование такого типа было проведено Ф. Гальтоном (Galton, 1880; см. также 1883, р. 83—114). Он разработал опросник, в котором испытуемых просили дать качественное описание мысленных образов, возникающих у них в процессе визуализации знакомых предметов или сцен. Полный текст этого опросника приведен в рамке на стр. 17. Хотя этот измерительный инструмент обычно называют Опросник «Завтрак на столе» Гальтона, он приводится здесь только в качестве примера; смысл же задания в том, что испытуемым предлагают подумать о каком-то специфическом предмете или сцене. Большинство вопросов в явном виде адресовано к зрительной модальности, хотя вопрос 12 нацеливает испытуемых на описание их образов в терминах других сенсорных модальностей, а вопрос 13 касается музыкальных образов. Наконец, в отличие от большинства современных опросников, измерительный инструмент Гальтона не ограничивает испытуемых в выборе слов при описании их внутренних переживаний.