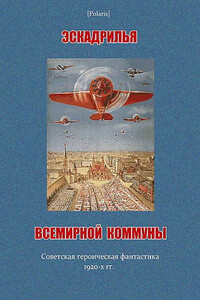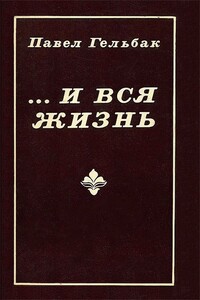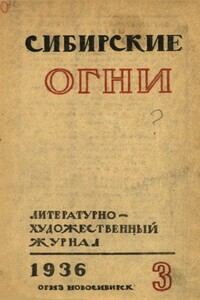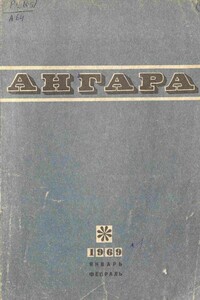Калабухов засмеялся:
- Ты, Северов, противоречишь и себе, и мне, и кончишь тем, что заморочишь мне голову, и стану я контр-революционером.
- Моя мечта! Чтобы ты меня расстрелял, как помощника командующего первой особой революционной бандой! У меня язык профессора Академии Генерального Штаба.
Он призадумался.
- Нет, - продолжал он. - На контр-революцию тебя не хватит, пафоса не хватит.
Калабухов вдруг стал торжественным.
- Если бы у меня погибли отец и невеста...
Северов уклонился.
- Впрочем, может быть, и хватит. Тебя декламация спасет. Но будем надеятся, что все обойдется.
Вошел Силаевский.
- Подпишите, тов. Калабухов. Готово.
- Хорошо. Поезжайте. Желаю.
Командарма расхватали в куски. Несут клочья к вагонам.
Вон в правый затуманенный глаз впитал круглый очерк сутулой спины.
Расширенное у другого ухо пьет:
...врагов Советской власти...
Черную папаху бережет в зрачке.
...расставаться с любимыми частями...
Любит; верно любит. Под Новочеркасском дрался в строю.
Что до голубого его взгляда, то взгляд расплавлен и пересыпан в бирюзовый бисер; досталось по зернышку многим.
Пола развевающейся черкески. Пятому слева достались серебряные газыри.
Рыжее озаренье бородки выщипали те, что были поближе.
Руку, брошенную вправо, разрубить слова:
...царские золотопогонники...
Справа осталась рука.
Что, что звенит тонкой серпантинной сталью? Что блестит как лезвие?
Не голос ли? Не лезвие ли его вызолоченной кавказской шашки?
Всем. Всем. Всем.
Под чугунную болтовню, по теплушке бултыхал, колебаясь и оступаясь тряске в такт Деревягин и лопотал:
- Чирьил-пирьил-лактайрьир. Чирьил-пирьил-лактайрьир.
Деревягин - комик. Вагоны - блатные кандальники. Сквозняк - речь ругань. Сквозняк лезет в щели, вязнет в дыму, вязнет в тепле, цепляясь за тело. Колеса, несмотря на разговорчивость, косноязычны, безуспешно выбалтывая чугунные секреты цепей и рельсовых скреп:
"Подпрыгивать. Подпрыгивать".
- Деревягин - пистолет!
"Подпрыгивать".
- Что надо!
"Подпрыгивать".
- Тоже - лактапрвир!
Темно в теплушке (теплушку закрыли от бьющей со степи пыли), в глазах светло от лохматых воспоминаний. В сумерках разнежились, няньчатся, молчат. У тускло разлившегося на верхних нарах окна играли в карты на золотые десятки, на серебряные рубли, на обручальные кольца и перстни: у одного в вагоне было двадцать шесть штук их: частью он их поснимал с убитых офицеров, частью выиграл в карты.
- У игрочков денег - невпроворот.
Но скоро играть бросили: стекло загустело, отливая красным дальним закатом, и потом погасло.
Угол потешался Деревягиным.
По вагону летало:
- Перекрушим белую гвардию. Играть не на что!
- Офицерские пальчики нужны.
- А раньше-то мало мы их крушили?
- В Харькове, помнишь, как под Люботином? Где носки, там и пятки!
- Деревягин!
- Что?
- Шамать хочешь?
- Хочу.
- А есть что?
- Нет. Питаюсь братской дружбой.
- Мандра есть. Получай.
Деревягин взял краюху и смолк.
Чугунная болтовня вагонов сбивала красноармейские речи в неразборчивое темное месиво; кто-то храпел, заглушая грохот. Когда вагон останавливался, замолкал и храпевший. На станциях не выходили; на станциях было безлюдно.
Лежали, думали, было жарко; от трудных мыслей мок лоб.
...Нет иных врагов, кроме врагов Советской власти...
(Клок красной черкески и рука, отброшенная вправо.)
- Здоровый, должно быть, в этом городе будет бунт?
- Надо понимать. Затем и едем.
- Не перестреляешь всю эту сволочь.
- Не перестреляешь, они тебя в штаб Духонина отправят. Дорога одна двоим не разъехаться.
- Что это ни у кого свечки нет? Мильонщики.
- Миллионы не светят.
Пятая.
Рано, с восьми утра, железоногий город, загромыхав трамваями, вышел париться в светлой бане солнечных лучей.
Город вырастал, над городом вырастал еще выше белый Кремль, - белобровый такой был Кремль, - все это расло и ширилось под необъятным утром и зашаркало, и запело, и чирикнуло даже в городском саду, завозилось все под необъятным утром; этот рост продолжался бы и дольше, если бы вдруг неожиданно не разрешился целой ярмаркой закрякавших автомобилей, тяжело поворачивающих круглые зады от подъездов ответственных работников. День выдался необычайный: с утра хлынула сухая жара сверху; душной, мутной влагой дунуло с моря: дома обморочно закатили стекла навстречу жаре, обнимающей голову тяжкими потными объятиями. Сразу почувствовалась сырость и переполнение. Пешеходы, как черная кровь, расструились по улицам и переулкам, захлестывая мостовые. Площадь у присутственных мест, перед Кремлем, заходила как кадык под черной тканью: такая толпа. Конец Затинной улицы, словно рыбий хвост, огромным раструбом забился по Козьему Бугру, переплескивая людей за окраины города, куда-то к вокзалу. Город был сыт по горло; и оттуда, с вокзала, так же как от застав, лились те же черные реки. С домами приключались дикие тошнотворные спазмы: из белого дома, где был губкомитет партии, толпами стекали на тротуар. Тревожно. Прохожим казалось, что кружатся крыши домов и круто зыблются мостовые под ногами, лиясь под ноги. Белый дом еще выдавил людей. Тревожно. Люди щетинились. Тревожно. Ломило тяжестью плечо, плечо ломил острый и твердый как локоть винтовочный затвор.