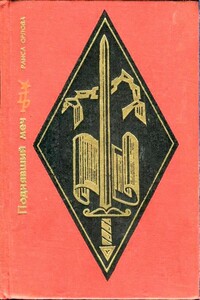Спор шел все о том же: нужно ли бояться правды, бывает ли несвоевременная правда, кто вправе решать, какую часть правды утаивать…
Она угощала нас бразильскими сластями. «В прошлом году мы были в Бразилии. Жорж Амаду — мой старый друг, он меня любит, как родную сестру, и я его люблю. Он просто помешался на истории со Сталиным.
Там, в Бразилии, мы видели ритуальные пляски с шаманскими завываниями. Они исповедуют свои негритянские культы. Мне это неприятно. Но сталинизм ведь тоже культ, тогда уж лучше такие.
А нужно ли было говорить правду на двадцать втором съезде?»
В конце этого разговора Анна сказала Л.: «Я с тобой не согласна, но я тебя люблю».
Анна и Роди — так она называет своего мужа, а он ее Чиби — вместе почти сорок лет; сколько всего у них за плечами, и так они нежны друг с другом, он то за руку возьмет, то голову погладит незаметно.
Анна: «Я хотела бы написать книгу о справедливости. Что это такое? С одной стороны — твоя история, а с другой стороны — история нашей уборщицы. Она из Восточной Пруссии, богатая крестьянка, жена эсэсовца. Ты ведь и таких тоже защищал…»
Через две недели, 7 марта, после поездки в Веймар, Лейпциг, Дрезден, Виттенберг, мы опять пришли к Анне. Она расспрашивает о наших впечатлениях, слушает, перебивает.
И попутно — а у Анны самое важное всегда попутно:
— То, что я сейчас расскажу, ты не вздумай писать ни в какие мои биографии. Вы знаете, что такое малая родина, патриа чика? Она есть у каждого человека. Моя — на Рейне. А Германия разделенная. Многое настоящее немецкое — не у нас. «Патриа чика». Из-за нее человек и смеется, и плачет. Не могу же я плакать из-за того, что СССР покупает пшеницу в США, не могу смеяться над вашим лысым Никитой. У меня и слезы немецкие, и смех немецкий. Я здесь недавно пришла на одно важное заседание. Гардеробщик услышал мой говор, привел своего напарника. «Он тоже из Майнца». Мы с ним разговорились. Его сестра училась в той же гимназии, что и я. Он принес кофе. Так все время заседания я пила кофе с земляком… И я и Роди, мы оба остались без малой родины. Он ведь из Венгрии. Если бы Москву разделили и ваши друзья Т. и Ф. очутились бы на другой стороне стены, что-то важное ушло бы из ваших жизней, верно?
…Интеллигенты часто чудаки, иногда бывают «комиш», но когда талантливы, то нет. Вот Брехт не был «комиш».
Из брехтовских пьес больше всего любит «Галилея».
— Гомулка не любит интеллигентов. Сначала не любил тех, кто против социализма, а теперь они ему вообще все чужды. Но Гомулка для социализма полезнее, чем Т. (называет известного либерального поэта).
Л. возражает. Она отмахивается.
— А иногда мне нравятся люди, которые мне совсем не нравятся. Например, Ульбрихт. Он меня ненавидит, но и удивляется, что за женщина такая, все время смеется? Что-то в нем меня привлекает. Он верит в то, что говорит. Он искренен. Но он, — она хитро улыбается, — никогда не поймет, что такое «патриа чика». Потому что он и Готше здесь родились. У вас ведь нет особой разницы, родился ли ты в Харькове или в Новосибирске. А здесь очень большая.
Вероятно, она говорит с нами об Ульбрихте, чтобы объяснить, почему дала статью в сборник к его 70-летию — за это ее осудили некоторые писатели.
— Роди был с Бела Куном в тысяча девятьсот девятнадцатом году. Мы в Париже узнали о гибели Куна, были потрясены.
Вечер был длинным, мы переговорили едва ли не обо всем на свете.
— Я живу здесь много лет. У нас сотни знакомых, но людей, с которыми разговаривала бы так откровенно, — нет.
* * *
Л. Те немецкие сановные идеологи, литераторы и журналисты, с которыми мы встречались, были больше похожи на комсомольских и партийных работников времен первой пятилетки, чем на наших новейших функционеров, у которых не осталось никакой идеологии, а только циничное охранительство и политиканство.
Берлинские цензоры нас удивляли. В ГДР издавали Лукача, который был у нас под запретом, переводили и издавали Фолкнера задолго до нас, и издавали книги, и публиковали статьи против антисемитизма в прошлом и настоящем. А у нас стихотворение Евтушенко «Бабий яр» вызвало исступление и в аппарате, и у литературных черносотенцев. Но в то же время в ГДР не разрешили публиковать повести Александра Солженицына, несмотря на все похвалы Хрущева, «Правды» и «Известий». Не напечатали даже романов Кочетова, потому что он слишком «мрачно» изображал советскую действительность.