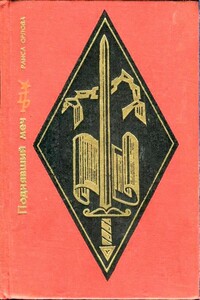Генерал на трибуне партийной конференции.
Генерал у дверей суда.
Генерал на площади.
А потом он — в тюремной одиночке.
Я в то время должна была писать книгу о Джоне Брауне. Она мне не давалась. Прочитала много книг, собрала много фактов, но никак не могла нащупать главного. Почему он ворвался в арсенал южан в Харперс-Ферри? Что им двигало? Как именно хотел он освободить негров? Что было у него на душе? Не знала. Впору было отказаться от книги, но на это я не имела никакого права…
Друг, с которым я делилась своими заботами, ответил:
— Представь себе Григоренко и пиши.
Не помню, как пошло дальше, но когда книгу опубликовали, мне несколько читателей говорили:
— А ведь тут многое похоже на наше диссидентство…
…1975 год. У нас в комнате сидит уже не воображаемый, а реальный Петр Григорьевич. Лев называет его Петро, а мне хочется «генерал».
Сила. Огромная внутренняя сила. Дар — командовать. Будто он и рожден генералом. И сознает это. Не слышала, чтобы он повышал голос, но металл иногда звучит.
Рассказчик замечательный, почти все вижу. Потом о многом прочитала в его «Автобиографии», сначала услышала.
Строго выполняя приказ, как и все приказы, потребовал, чтобы все солдаты в его дивизии носили каски. И сам поступал так же. Начальник политотдела Брежнев упрекнул в «бюрократизме»: Вы что, за свою голову боитесь… бережете?»
Что может быть страшнее для храбреца, чем упрек в робости? Но Григоренко ответил:
— Берегу не только свою, берегу жизни солдат. Да и каски эти в тылу делали, ночей не спали и не для того, чтобы их в сумках таскали…
Разрыв мины, каска действительно спасла ему жизнь. Потом с вмятиной возили по войскам, показывая солдатам, как надо выполнять приказы.
Слушая его рассказы, еще острее ощутила: ту горькую чашу, которую ему пришлось испить, он мог отстранить от себя. Он мог — легко — не стать диссидентом. У него было все, что может получить тот, кто принадлежит к самой высокой номенклатуре: звания военные и ученые, любимая работа, квартира, достаток, полная возможность дальше учиться самому и учить других.
Воевать против сверхдержавы вышел не пылкий романтический юноша — Григоренко стал участником правозащитного движения, уже прожив полвека. Ядро его личности оказалось непробиваемым.
…18 мая 1944 года в одну ночь крымско-татарский народ был сталинским указом выселен из Крыма в Казахстан, людей везли в вагонах для скота, больше половины погибли в пути.
После смерти Сталина другие «наказанные» народы вернули; в 1967 году формально, без оглашения в печати реабилитировали и крымских татар. Но возвращаться в Крым им было запрещено. Об этом знали многие. Знали, но либо вовсе об этом не задумывались, либо отталкивали от себя горькое знание что же поделаешь? — принимали как должное. А Григоренко, узнав, уже не мог жить по-прежнему. Он был рожден для дел, верил в дела.
Я видела его только в небольших московских квартирах, у нас, у них, у нашей дочери, у общих друзей. Но представляла во главе войска на поле боя. Такой прикажет — и трудно ослушаться.
Впрочем, видела я Петра Григоренко и в большом зале Публичной библиотеки Нью-Йорка 3 сентября 1981 года. Он был третий год в изгнании, мы — первый. Мелькали, словно и впрямь на том свете, люди, уехавшие за прошедшие десять лет. Григоренко сидел за краешком стола, — полагалось стоять, потерянный, неумело жевал какой-то сэндвич. Нет, тут он генералом не был.
Но это уже другой этап его, нашей, общей жизни. Мы пишем о Москве.
* * *
В 1974 году Петра Григорьевича, наконец, освободили. Этому предшествовали многочисленные ходатайства, требования, протесты, которые советское правительство получало из разных стран, от разных людей.
Вернувшись в Москву, Григоренко стал жить так же, как до ареста. В маленькой квартире с утра до поздней ночи не умолкал телефон, не прекращалось движение людей. Приходили московские и приезжие друзья и вовсе незнакомые, родственники арестованных, ссыльных, крымские татары, немцы из Казахстана, отказники-израильтяне, литовские католики, баптисты… И, разумеется, приходили иностранные корреспонденты…