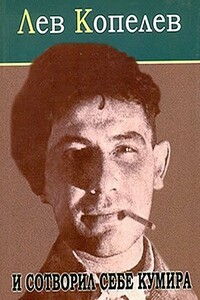Он переключил свою неиссякаемую энергию, главным образом, на новые издания русских классиков и на переводы зарубежных. Участвовал в составлении школьных хрестоматий.[46] Он был просветителем по призванию. «Вырастить два колоса там, где рос один, — вот настоящее дело, посильное каждому», — повторял он.
Он часто встречался с учителями, библиотекарями, подолгу беседовал с ними, со многими переписывался.
Отступая на одном участке, он наступал на другом, переходил от одного поля деятельности к другому. Он соглашался на уступки редакторам, цензорам во второстепенном, стремясь сохранить главное.
В Оксфордской речи он сказал: «…Мне, старику, литератору, служившему литературе всю жизнь, очень хотелось бы верить, что литература важнее и ценнее всего и что она обладает магической властью сближать разъединенных людей и примирять непримиримые народы. Иногда мне чудится, что эта вера — безумие, но бывают минуты, когда я всей душой отдаюсь этой вере».
* * *
— Есть ли Бог? С бородою нету. А другой…
Замолчал.
В молодости, соблюдая церковные обряды, он — воспитанник позитивистов-шестидесятников и Чехова, вероятно, мало задумывался о Боге.
Влюбленный в поэзию, музыкально воспринимавший слово, самозабвенно восхищавшийся стихами, он верил — то, что вызывает любовь и восторг, можно разумно истолковать, объяснить.
Но принимаясь объяснять, он сам иногда великолепно опровергал эту свою наивно-просветительскую уверенность.
Он чутко воспринял «женственную стихию» блоковской лирики, стихи, возникающие властно, как бы сами собой, вопреки воле покорного им поэта. Обилие женских рифм, «влажные звучания» у Блока он услышал как филолог и как художник.
Он любовался гармонией ахматовского стиха, его кристаллически граненой стройностью. Он одним из первых угадал величие поэта в Ахматовой — юной красавице, которая большинству критиков казалась лишь одной из плеяды петербургских светски-богемных поэтесс.
Пастернака он увидел «под открытым небом, под ветром и солнцем, в поле, в лесу, среди трав и деревьев».
И в то же время стремился объяснить читателям (и себе?), как непосредственно и конкретно отражает поэзия реальный мир — природу, предметы, события.
Ночь, улица, фонарь, аптека…
Чуковский был едва ли не единственным критиком, который, говоря об этих строках, кроме всего прочего вспоминал реальную аптеку на берегу канала; мимо нее Блок проходил ежедневно:
…чуть золотится крендель булочной
И раздается детский плач.
…Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.
Для большинства читателей нескольких поколений эти зарисовки едва различимы в таинственном тумане, окутавшем
берег очарованный
и очарованную даль.
Но Чуковский напоминает: булочники вывешивали тогда над лавками золоченые крендели; за шлагбаумами на станции Озерки в то лето копали канавы.
И в карнавальной фантасмагории ахматовской «Поэмы без героя» он видит исторические реалии. Зимой тринадцатого года действительно была гололедица, и кареты валились с мостов. Извозчики, поджидавшие театралов, жгли костры. Красавица-актриса Ольга Глебова-Судейкина — «белокурое чудо» — была близкой подругой Ахматовой.
В пастернаковской поздней лирике Чуковского радует узнавание именно переделкинских рощ и того ручья, которым начинается речка Сетунь.
Такая пристальная зоркость критика-реалиста помогала и помогает приблизиться к великой поэзии, проникнуть в ее сокровищницы. И многие начинают сознавать, что стихи, словно бы непостижимо далекие, вырастают из реального мира. И поэты, считавшиеся непонятными, чужими, — сродни понятному с детства Некрасову.
Чуковский в критике — просветитель и рационалист. А в поэзии сказочник, фантазер. В его мире разговаривают крокодилы и умывальники, летают одеяла и посуда.
Долго, трудно пришлось ему отстаивать право на сказку, на веселый абсурд.
Но именно веселый и в конечном счете возвращающий к понятному и доброму миру, где терпят поражение тараканища и бармалеи.
Чаще всего он избегал мрачного, болезненного, ущербного; стремился к ясности, здоровью. Веселых леших он предпочитал печальным демонам.
Ему был чужд Достоевский, он не жаловал Цветаеву.