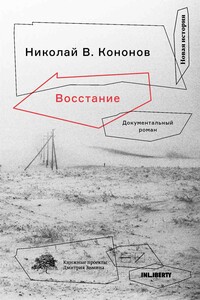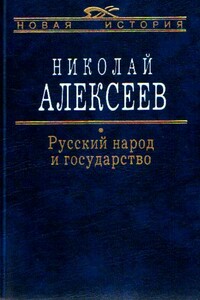Рыбалко воспринимает это предостережение как намек, чтоб он уверенней подтвердил. Он еще более рьяно подтверждает:
— Да, да, это он — Марченко, я его отлично помню!
— Может, вы ошибаетесь, Рыбалко? Посмотрите повнимательней! Действительно ли вы узнали Марченко?
И Рыбалко старается:
— Как я могу ошибиться, я ему чуть в морду не дал, когда он клеветал! Я его на всю жизнь запомнил и никогда не забуду!
— Как мне теперь доказать, что я не верблюд? — вполголоса проговорил тот зэк, на которого так нагло-уверенно пер Рыбалко.
Тут Антонов повернул голову в нашу сторону. Увидев, что я сижу не с краю, а посередине и Рыбалко тычет пальцем не в меня, он побагровел и лишился дара речи. Сигарета запрыгала у него на губе.
— Я не Марченко, — мой сосед, видно, решил кончать игру. — Вот Марченко! — и он указал на меня.
Рыбалко растерянно моргал и непонимающе смотрел на Антонова.
— Вот так и срок намотают, — сказал зэк справа, — и знать не будешь, за что!
— Да, — заговорил наконец Камаев, — ошиблись вы, Рыбалко! Указали на другого. Не узнали Марченко!
Теперь только Рыбалко окончательно понял свой промах! И он не придумал ничего другого, как под смех и понятых, и моих соседей затараторить: «Да-да, я сейчас его узнал по голосу! Это он!»
— Как же ты узнал мой голос, если я просидел все это время молча?
— Узнал я его, узнал!
Камаев кричал на всех, чтоб прекратили смех и не мешали работать. Я потребовал, чтоб он сейчас же составил протокол об опознании, и ему пришлось записать: Рыбалко не узнал Марченко, указал на другого человека.
Это был единственный документ, который подписал и я.
Под конец мой сосед справа добавил еще одну деталь. Он порывался что-то сказать, когда только ввели Рыбалко, но Камаев шикнул на него. Теперь он сделал заявление:
— Какое это опознание, если я хорошо знаю Рыбалко и он меня знает по фамилии и в лицо. Он был у нас начальником конвоя и каждый день водил на работу.
Я спросил Камаева:
— Ну, так фабрикует Антонов дело или нет?
— Вас Рыбалко не узнал, при чем тут Антонов! — ответил прокурор.
По дороге в камеру надзиратель меня подбадривал: выгонят тебя теперь, у Антонова ни х… не вышло!
А в коридоре ШИЗО выпалил дежурному офицеру и надзирателю весело:
— Вот он их вы…! Прямо кино!
Некоторые ведут себя на очной ставке не так нагло, как Рыбалко или Сапожников; вид у них затравленный, они не глядят ни на меня, ни на Антонова с Камаевым, на их вопросы отвечают нехотя, через силу, озлобленно, как лают: «Ну, говорил!», «Не помню я, может, и так»… Ясно, эти попались Антонову на крючок — то ли из-за собственного трепа, то ли еще за какую провинность. Провокаторы вроде Андреева или Сапожникова помогли им стать лжесвидетелями, и, хотя они не устояли, удовольствия от того, что врут мне в глаза, не получают никакого. Вроде даже приходится мне их пожалеть.
Но врут все. Не знаю, возможно ли в это поверить: нет ни одного правдивого слова, показания. Ни одного.
Мне, конечно, не удастся доказать это суду, я и не надеюсь. Но того хуже: мои друзья, вероятно, решат, что я вел себя в лагере опрометчиво и неосторожно, вряд ли они поймут, что все дело, от первого до последнего слова, — беззастенчивая ложь. Ведь в основе обвинения лежит то, что я действительно думаю, что соответствует моим взглядам и мнениям. Да, я знаю, в США уровень жизни несравнимо выше, чем в СССР. Да, я думаю, что мы сильно отстали в развитии техники. Да, я вижу: у нас нет свободы слова и печати, собраний тем более. Да, я считаю «братскую помощь» Чехословакии в 1968 году оккупацией, агрессией, как ее определяет международное право.
Только в лагере я никому, ничего, никогда об этом не говорил.
Вот на очной ставке мой сосед по кровати. Он москвич, бывший таксист, а нынче классический уголовник: пьяница и наркоман, готовый украсть у товарища по несчастью последний рубль на картежную игру, откровенный стукач — частый посетитель кабинета Антонова. Помню, орет он на весь барак о чехах и словаках: «Да их, б…ей, всех до одного передушить надо! Мы их освободили, а они против нас! х… ли с ними возиться? Пустить тысячу бульдозеров и сровнять все с землей! Все с корнем под гусеницы!»