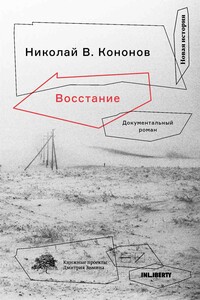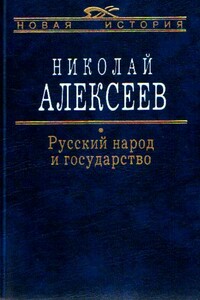Ожидание на Соликамской пересылке, такой же перенаселенной и грязной, как Кировская, было все же веселее переносить. Одно то, что это уже конец пути, а другое — зэки здесь ведут себя иначе. Ведь никто не знает, не угодит ли он в один лагерь с соседом, значит, надо держаться с ним более терпимо и не наглеть.
В нарушение общих тюремных правил здесь не существовало ни подъема, ни отбоя. Круглые сутки в камере шла картежная игра. Играли, почти не таясь от надзирателей. Ночью устраивались с картами на верхних нарах, поближе к лампочке, которая слабо светила из ниши в стене над входной дверью.
Играли на все: от новенькой одежды, денег, продуктов — до всякого старья. Тут можно было проследить за везением. Кто-то начинает играть, имея в своем распоряжении не более как пару поношенных носков или застиранный носовой платок, — через несколько часов он становится обладателем несметного количества тряпья, денег и жратвы. Сегодня ты видишь франта в шелковой рубашке, приличном костюме и с мешком добра. Он демонстративно отказывается от тюремной баланды и заказывает у тюремной обслуги запрещенный чай, анашу и даже морфий, не говоря уж о продуктах. Завтра он будет сидеть на голых нарах в затасканных лагерных штанах и куртке тридцать третьего срока носки, в которых, как говорят зэки, уже семерых похоронили.
Один из заядлых игроков, Жора, особенно мне запомнился. Я его застал в камере в немыслимом рванье. Несколько раз он пытался отыграться и садился с разными компаниями, не знаю, что он мог предложить партнерам. Но ему не везло. После каждого проигрыша, отлежавшись часа три молчком на нарах, он выходил на середину камеры, прислонялся плечом к стояку и пел вполголоса старинные русские романсы. У него был приятный голос, и пел он самозабвенно, совершенно отключаясь от окружающей обстановки. В камере становилось непривычно тихо, даже картежная игра прерывалась. На того, кто осмеливался нарушить тишину, прикрикивали.
Жора почти никогда не пел по чьей-либо просьбе, а только когда у него возникало желание. Он не выжидал тишины и мог начать в разгар спора и общего гвалта в камере. Однажды он проигрался, как обычно, и стал пробираться на свое место на верхних нарах, чтобы молча пережить проигрыш. Кто-то с издевкой обратился к нему:
— Ну, Жорик, а теперь спой!
— С таким настроением не до пения, — беззлобно и равнодушно ответил он, падая лицом в замусоленный бушлат вместо подушки.
Вот еще один игрок — экземпляр, типичный для уголовного мира. Он роскошно одет и со всеми разговаривает свысока. Другие играющие обращаются к нему за посредничеством в спорах. А он поддерживает свой авторитет частыми рассказами о том, как он где-то в камере во время игры одному выбил глаз, другому поломал руку, кого-то загнал под нары. И все это отстаивая справедливость и картежный закон.
Дня через три после моего появления затолкали в камеру очередной этап из Перми. Вечером наш франт уговорил посидеть за картишками новичка. Просидели они почти до утра и кончили дракой. Новичок не то «справедливо» обыграл франта, не то как-то сжульничал. Они крепко начали спорить, доказывая каждый свою правоту. Обычно картежники в таких условиях просят кого-нибудь третьего рассудить их. Эти же ни к кому не обращались, брань становилась все яростнее и оскорбительнее. В конце концов новичок сильным ударом ноги сбросил франта с нар на пол. Пол бетонный, а тот летел со второго яруса. Здорово ударившись, так что и встать не мог сразу, он больше не спорил, а молчком забился в угол на нижних нарах и там отсиживался пару дней, не вылезая даже на оправку.
Новичок тоже недолго проходил в королях, на следующий же день проигрался до нитки. А когда я уходил на этап, то эти двое уже жили душа в душу, хотя и были оба камерными «крахами» (ничтожествами, ничего не имеющими нищими).
Кроме картежной игры, на пересылке вовсю идет торговля. Зэки продают хозобслуге все, что имеют при себе или на себе: все равно в лагере свое не наденешь, а казенное тем более нечего жалеть. Зэки из хозобслуги в доле с надзирателями и приносят в камеру запрещенный чай, анашу и водку. Цены соответствуют степени дефицита: при мне один сокамерник отдал новенькое пальто (рублей девяносто-сто в магазине) за семь пачек чаю; приличный неношеный костюм стоил четыре-пять пачек, брюки или рубашка шли всего за пару пачек. А пачка чаю в магазине около лагеря стоит тридцать восемь или сорок восемь копеек; неплохой барыш и у надзирателей, и у обслуги!