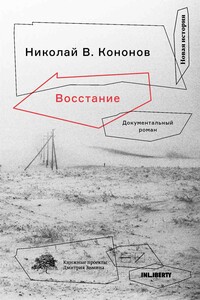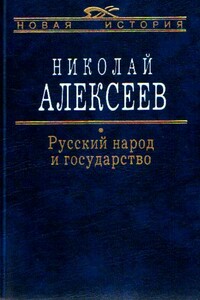Задача прокурора Жукова состоит в том, чтобы доказать, что я «проживал» в Москве без прописки. Доказать это так же трудно, как и опровергнуть. Полтора месяца я лежал в московской больнице — «проживал» я в это время в Москве или нет? Сотни больных находятся в таком же положении. Но в это время Лариса отправила по моей просьбе по почте деньги за квартиру, и вот изъятый у тети Нюры почтовый перевод используется как улика: Марченко в это время в Александрове не жил. А это и доказывать не требуется, есть больничная справка.
Работая над книгой, я прожил летом несколько недель в палатке в лесу, в полутора километрах от места прописки. Ежедневно ходил на завод к шести утра, но не каждый день бывал у тети Нюры: время жалел. Прокурор утверждает, что это время я жил в Москве. «Да не мог бы я поспеть на завод из Москвы, проверьте расписание поездов!» Но суд принимает версию прокурора.
Житель Александрова может хоть трижды в неделю бывать в Москве — в театре, в гостях; многие, как и я последние несколько месяцев, работают в Москве — «проживают» они там или нет?
При обсуждении закона о прописке вполне проявляется не только его ограничительная сущность, направленная против любого гражданина, но и идиотизм, бессмысленность его формы. После трепанации черепа я просил милицию дать мне временную прописку в Москве для долечивания у оперировавшего меня врача; мне отказали. Я не уклонялся от закона о прописке, нарушил его не я, а милиция. Но отвечать буду я — за то, что «проживал».
Меня схватили на улице, проверили документы и, выяснив, что я «иногородний», штрафуют, выдворяют, судят. Да что это, военное время — время патрулей и облав? Москва на осадном положении?
Мне сейчас стыдно, что я принял участие в этом балаганном представлении.
После перерыва зачитывают приговор: год лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима. Это максимальная мера наказания по предъявленному мне обвинению.
Когда меня быстро ведут из зала суда в «воронок», подогнанный почти к самой двери, я на минуту снова вижу всю публику. Толпа во дворе суда разделилась надвое, агенты стоят ближе к двери, отгораживая друзей от меня, а те — лицом ко мне, к «воронку» — прорываются вперед. Два фотоаппарата направлены почти объектив в объектив: агенты фотографируют толпу, а кто-то из «своих» пытается поймать то ли агентов, то ли меня в дверях, с конвоирами за спиной. И снова я ощущаю необычную напряженность, неприкрытую взаимную озлобленность этих двух частей толпы. Почти стенка на стенку, две тучи, заряженные противоположными зарядами электричества.
«Свои» мне что-то кричали, а что — я не расслышал из-за глухоты.
И лишь когда запертый «воронок» трогается с места, я слышу стук кулаком в стенку машины и сильный женский крик:
— Толя, прочти сегодняшнюю «Правду»!..
Всю дорогу до Бутырок я думал: что же там, в газете? Я связал этот возглас с возбуждением друзей в этот день и понял, что речь идет о чем-то очень серьезном. Неужели Чехословакия? Дина Исааковна ничего не сказала (я потом понял: она не хотела взвинчивать меня перед судом; и действительно, если бы я знал об оккупации, неизвестно, как бы я себя повел; собственный суд был бы мне до лампочки, это уж точно).
В камере я сначала попытался узнать что-либо, не прибегая к расспросам. Прислушивался к разговорам окружающих — бесполезно. В камере стоял обычный шум и гам. С верхнего яруса меня окликнули: «Земеля, смотри!» Я поднял голову и узнал моего соседа по боксу, грузина. Он встал там на голову и так стоял, глядя на меня и подмигивая.
— Что, год дали, да? — спросил я, вспомнив его обет.
Он ловко перевернулся, сел и тогда лишь ответил:
— Шесть месяцев. А тебе?
— Год.
— Свистишь!
Несколько других осужденных, знавших мое обвинение, тоже не поверили мне: «Брось, земляк, не темни! Это полстраны пересажали б!»
Что ж, они были правы, я и на самом деле «темнил».
Как узнать сегодняшние новости? Я спросил у своего соседа, занимавшего место рядом со мной на полу возле унитаза:
— Газету сегодня давали?
— Давали.
— А где она? — Вообще-то я догадывался о ее судьбе.
— На курево порвали. А что там? Не амнистия?