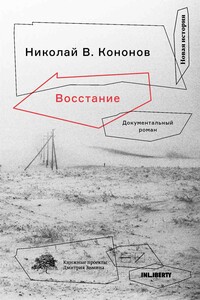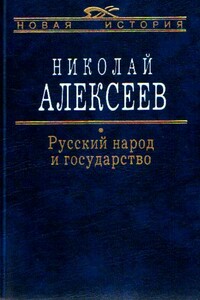— Возьмите заявление!
— Сиди, сиди!
— Врача!
— Жди, будет врач.
И нет врача. А то подойдет, спросит в кормушку, в чем дело.
— Голодовка… Пять дней нет стула… Дайте слабительное…
— Ладно, подождите.
Уходит и больше не появляется.
Первую ночь в Ярославле я не спал, а в каком-то полузабытьи провалялся до подъема. На следующую ночь, часов в двенадцать, меня вызывают на этап. Я уже не в силах тащить матрац в каптерку, бреду из камеры порожняком. Надзиратель, матюгаясь, дергает меня за рукав обратно в камеру, дергает так, что я валюсь на стенку. Но тем и кончилось: спасибо, сосед вытащил мою постель.
Нас, этапируемых, ведут в этапную камеру, и здесь мы проводим всю ночь до утра на ногах — сидеть не на чем, лавок нет. Под утро выдают селедку и хлеб — этапный паек.
— Не беру. Голодающий.
— Сколько ж голодаешь?
— Сорок девять дней.
— Сорок девять? И ты еще живой? — Капитан рад развлечению. — Ха-ха-ха! Ну и живучий! Ха-ха-ха!
Огромная туша капитана колышется от смеха, брюхо трясется и ходит ходуном. Я взбешен, чувствую себя униженным и бессильным.
Минут через сорок капитан снова появляется на пороге камеры, за его широченной спиной скорее угадываются, чем видны надзиратели.
— Где тут голодающий? Подойди!
Я с трудом поднимаюсь с пола, протискиваюсь из угла камеры к двери, останавливаюсь перед капитаном:
— Я голодающий.
Он стоит, заложив руки за спину, окидывает меня взглядом:
— Голодающий, пойдем, поборемся!
Капитан хохочет, смеются за его спиной. В камере тихо.
Я отхожу от него подальше, чтобы не сорваться, и долго переживаю этот эпизод. Я и потом возвращался к нему, когда был уже далеко от Ярославля и снял голодовку. Почему я не плюнул этому борову в рожу? Или правильнее, что сдержался?
…А все же интересно, чем бы для меня обернулось дело, плюнь я в него или запусти чем-нибудь. Побоями? Судом?..
На рассвете приехали в Пермь. Снова заявляю конвою:
— Я голодающий, голодовка пятьдесят дней.
— А где ваш сопровождающий? Врач или фельдшер?
— Откуда я знаю!
— Тут что-то не так! Был бы голодающий — без врача ни один конвой не принял бы.
«Воронок» — обычное дело — набит битком, и так как я подхожу последним, мне места нет. Зэк передо мной сумел втиснуться лишь наполовину, я останавливаюсь за его спиной. А сзади: «Давай, давай!» Видя мое неусердие, два конвоира вцепились руками в решетку, а коленями стали вминать меня в сплошную массу зэков. Вдавили, задвинули дверь-решетку, защемив ею мою телогрейку на спине. Так я провисел около часа — пока загружали остальные «воронки», да пока ехали по городу, да стояли во дворе тюрьмы… Не знаю, все ли время я был в сознании…
В этот день дважды я подавал дежурным офицерам заявление о голодовке, и дважды оно летело на пол, мне под ноги:
— Паек получил? Сожрал? Голодающий!..
Окружающие сочувствуют мне, возмущаются тюремщиками. Мой попутчик из Ярославля рассказывает им: «Я с ним в одной камере был, и в вагонзаке двое суток на одной полке сидели — он ни крошки в рот не положил. И паек не взял».
— Да что, по нему не видно? — Но никто не понимает моего упрямства: «Им не докажешь!», «Подохнешь только им на радость», «Нет правды, где правда была, там х… вырос» и т. п. Все дружно советуют мне бросить бесполезную затею.
Пора кончать голодовку. Завтра сниму.
В этот же день всех прибывших выводят к врачу на медосмотр (называется почему-то «комиссия»). В кабинет запускают по шесть человек, опрос короткий (осмотра совсем нет).
— Жалобы есть? Вшей нет?
Я сообщаю: пятьдесят один день голодовки.
— А где ваш врач?
— В Калуге, в тюремной медчасти.
— Вас должен был сопровождать врач до самого места… Когда вас в последний раз кормили?
— 12-го, в день отправки.
— А сегодня 18-е… — она смотрит на меня с сомнением. — А когда был стул?
— 9-го. Дайте слабительное.
— Но я только принимаю этап. Помощь оказывают другие.
Ни ее, ни «других» я больше не видел.
В течение дня нас водят в баню, проверяют, перепроверяют, сортируют, загоняют в отстойники. Многие мои попутчики едут «на химию», да и в предыдущих этапах, видно, тоже. Стены в боксах исписаны прощальными надписями: «Восемнадцать человек из Грозного ушли „на химию”» — и число; «22 человека из Кишинева ушли на БАМ» — и число.