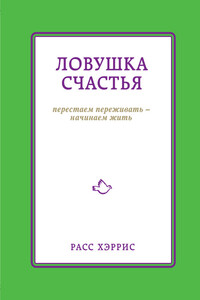С другой стороны, на памяти руандийцев иных порядков и не было, и по сравнению с остальной постколониальной Африкой иностранным поставщикам гуманитарной помощи Руанда казалась сущим раем. Почти во всех прочих странах этого континента, куда ни брось взгляд, были сплошь диктаторы — ставленники великих держав «холодной войны», правившие посредством грабежа и убийства, и противостоявшие им бунтовщики крыли их и их покровителей той громкой антиимпериалистической риторикой, которая вызывает у белых социальных работников горькое ощущение, что их не понимают. Руанда была страной спокойной — или, подобно вулканам на северо-западе, дремлющей; там были прекрасные дороги, высокая посещаемость церкви, низкий уровень преступности и стабильно растущие стандарты общественного здоровья и образования. Если ты был бюрократом с бюджетом гуманитарной помощи «на распил», а твой профессиональный успех измерялся умением не слишком нагло лгать или лакировать действительность при заполнении оптимистичных статистических отчетов в конце каждого финансового года, то Руанда была для тебя как раз тем, что доктор прописал. Бельгия щедро сливала деньги в свою старую кормушку; Франция, вечно жаждавшая расширить свою неоколониальную африканскую империю — la Francophonie[8], — начала кампанию военной помощи Хабьяримане в 1975 г.; Швейцария посылала в Руанду больше гуманитарной помощи, чем в любую другую страну мира; Вашингтон, Бонн, Оттава, Токио и Ватикан — все они числили Кигали своим любимым получателем благотворительных фондов. Местные горы кишели белой молодежью, которая трудилась, пусть и сама того не ведая, ради вящей славы Хабьяриманы.
Потом в 1986 г. на мировом рынке произошло стремительное падение цен на главные статьи экспорта Руанды — кофе и чай. Единственное, на чем еще можно было выгадать, — это на аферах с проектами иностранной гуманитарной помощи, и среди представителей руандийского северо-запада, которые выдвинулись за счет связей с Хабьяриманой, началась жесткая конкуренция. В криминальных синдикатах, наподобие мафии, человек, который сжился с логикой и практикой банды, как говорится, принадлежит ей с потрохами. Эта концепция органична для руандийских традиционных социальных, политических и экономических структур, пирамид тесных отношений типа «патрон — клиент», которые остаются здесь единственной чертой, которую не смог изменить ни один режим. На каждом холме есть свой вождь, у каждого вождя есть свои заместители и помощники; эта неофициальная иерархия распространяется от мельчайшей социальной клетки до высшего уровня центральной власти. Но если Руанда, по сути дела, принадлежала мвами — или, как сейчас, президенту, — то кому принадлежал он сам? Путем контроля над полугосударственным бизнесом, над политическим аппаратом НРДР и армией кучка представителей северо-запада к концу 1980‑х превратила руандийское государство в послушный инструмент своей воли, а со временем и сам президент сделался скорее продуктом региональной власти, нежели ее источником.
Судя по передачам государственного радио Руанды и ее газетам (в большинстве своем «ручным»), было бы трудно предположить, что Хабьяримана не является самовластным повелителем и владельцем своего публичного лица. Однако все знали, что президент был отпрыском малозначительного клана, возможно, даже внуком заирского или угандийского иммигранта, зато его супруга, Агата Канзинга, была дочерью «больших шишек». Мадам Агата, ревностная прихожанка, обожавшая оптом скупать ассортимент парижских бутиков, была той самой мышцей, на которой держался трон; именно ее семейство и иже с ними одарило своей аурой Хабьяриману, именно они шпионили для него, а время от времени и убивали неугодных, сохраняя строгую секретность. А когда в конце 1980‑х страна начала затягивать пояса, именно «клану Мадам» удалось первым поживиться за счет иностранной помощи.
* * *
Но сколько же вам пришлось сейчас узнать — всего и сразу! Позвольте мне сделать небольшое отступление.
Осенью 1980 г. натуралист Дайан Фосси, которая провела предыдущие 13 лет в горах на северо-западе Руанды, изучая повадки горных горилл, уехала в Корнельский университет заканчивать работу над книгой. Ее договор с университетом требовал, чтобы она вела в нем курс лекций, и я был одним из ее студентов. Однажды перед занятиями я нашел ее в настроении мрачнее тучи — за ней такое водилось. Фосси только что поймала свою уборщицу на том, что та выбирала волосы из ее расчески. Я был впечатлен: само наличие горничной, не говоря уже о ее выдающейся старательности, поразило мое студенческое воображение как явление в высшей степени экзотическое. Но Фосси поругалась с этой женщиной и могла даже уволить ее. Она рассказала мне, что это ее дело — избавляться от своих волос или, если уж зашла об этом речь, обрезков ногтей. Лучше всего их сжигать, хотя и смыть в унитаз тоже неплохо. Так что уборщица стала «козой отпущения»: на самом деле Фосси разозлилась на саму себя.