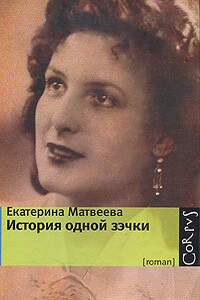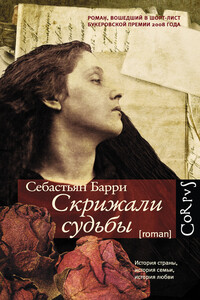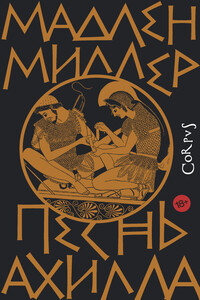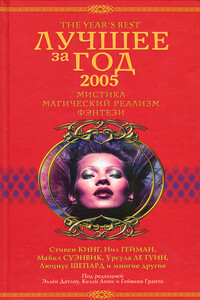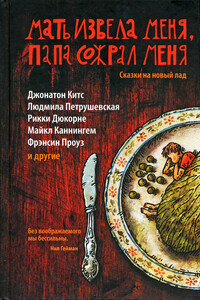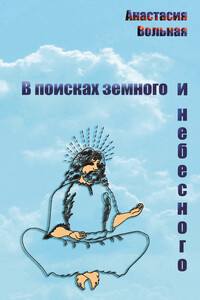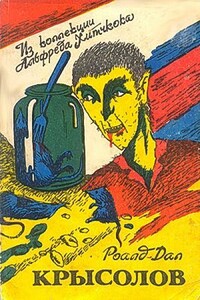Но мне кажется, я дала много интересного материала. По мере того как я росла, мое языковое развитие не только контрастировало с развитием Ферн, но и представляло собой абсолютно предсказуемый фактор неожиданности, дискредитировавший любые сравнения между нами.
В 30-х годах вышли работы Дэй и Дэвис о речевом развитии детей, и с тех пор укоренилось представление о том, что у близнецов оно особенное. В семидесятых были проведены новые исследования, но я не уверена, что наши родители ими специально интересовались. Тем более они были не вполне релевантны в нашей ситуации, при таких разных задатках близнецов.
Аспиранты работали со мной и Ферн по отдельности, но все-таки большую часть времени мы с ней проводили вместе. У меня вошло в привычку говорить за Ферн, а у нее – рассчитывать на это. К трем годам я уже работала для Ферн переводчиком, что определенно тормозило ее успехи.
Думаю, в результате наш отец изучал скорее не способность Ферн общаться в принципе, а ее способность общаться со мной. Только неизбежную рокировку не признавал, а была бы готовая сенсация. Формально отец искал ответа на следующий вопрос: может ли Ферн говорить с людьми? А вот вопрос настоящий, но не признанный: может ли Розмари научиться говорить с шимпанзе?
Один из первых аспирантов, Тимоти, утверждал, что в довербальный период у нас с Ферн была криптофазия – секретный язык жестов и звуков. Но записей не велось, и я узнала об этом только недавно. Отец счел это свидетельство слабым, ненаучным и, по правде сказать, надуманным.
По телевизору иногда показывали рекламу чемоданов “Американ туристер”, в которой блистал шимпанзе Уфи. Ферн не обращала на него внимания. Но однажды мы поймали пару фильмов из давнего сериала “Ланселот Линк, шимпанзе-шпион”, где Линка играл импозантный Тонга. Говорящие обезьяны в костюмах и галстуках заинтересовали Ферн. Она не отрывала глаз от экрана, то поджимая, то разжимая свои загребущие губы и жестами показывая шляпу.
– Ферн хочет шляпу, как у Ланселота Линка, – сказала я маме. Для себя просить нужды не было: если Ферн получит шляпу, то и я получу.
Но мы обе остались без шляп.
Через некоторое время отец договорился, что к нам на полдня приедет маленький шимпанзе по имени Борис. Увидев его, Ферн подала тот же сигнал, что при виде коричневых пауков-отшельников, которых мы иногда находили в амбаре. Мама переводила этот сигнал “ползучая кака”, а Лоуэлл – “ползучее дерьмо”. (Второй вариант, на мой взгляд, был разумнее: “кака” – детское слово, а “дерьмо” – взрослое и серьезное. Ферн говорила серьезно.) Борис, хотела сказать Ферн, – мелкое ползучее дерьмо. А потом и вовсе – мерзкое ползучее дерьмо.
Всегда окруженная людьми, Ферн думала, что она человек. Ничего странного. Когда шимпанзе, выросших в доме, просят разобрать стопку фотографий – в одну кучку людей, в другую шимпанзе, – большинство из них делают только одну ошибку: собственную фотографию они кладут туда, где люди. Ферн сделала в точности так.
А вот путаницы в моей голове никто, судя по всему, не предвидел. Отец не знал того, что мы предполагаем сейчас, – что на развитие нейронов детского мозга зеркально воздействует окружение ребенка. Все время, которое мы с Ферн проводили вместе, зеркало работало в обе стороны.
Много лет спустя я нашла в Сети статью обо мне, написанную отцом. Он первым предположил то, что подтвердили позднейшие исследования на обширном материале: вопреки своим поговоркам, люди склонны подражать гораздо больше, чем другие приматы.
Приведу пример. Если показать шимпанзе, как достать еду из клетки-головоломки, то они в свой черед добудут угощение кратчайшим путем, пропустив все лишние шаги. Человеческие дети будут подражать чрезмерно, они воспроизведут каждый шаг, пусть даже не обязательный. Есть какое-то объяснение, почему рабское подражание (раз уж мы выяснили, что ведем себя так) стоит выше вдумчивости и практичности, но я его позабыла. Почитайте статьи.
В первую зиму, как пропала Ферн, я пошла в детский сад, опоздав к началу учебного года из-за домашних передряг и огорчений. Дети стали обзывать меня человекообезьяной, а то и просто обезьяной. Что-то такое во мне было – жесты ли, мимика, движение глаз; безусловно – то, как я говорила. Годы спустя отец мимоходом упомянул “эффект зловещей долины” – отвращение к тому, что выглядит почти, но не совсем как люди. Эффект зловещей долины трудно описать, а тем паче проверить на практике. Но если он существует, то понятно, почему некоторые из нас так неуютно чувствуют себя, глядя на шимпанзе. Детям из моей группы было со мной неуютно. Пяти-шестилетки не поверили в поддельного человека.