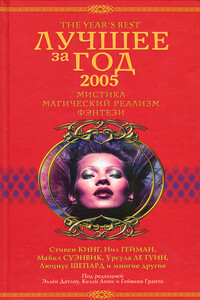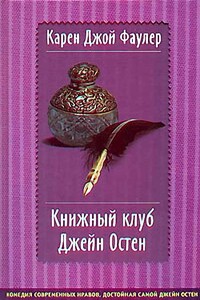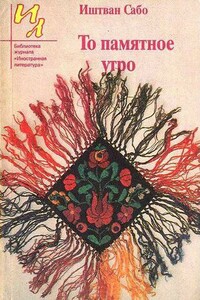– Помнишь, как Ферн нас любила? – спросил Лоуэлл.
Папа взял вилку, и она задрожала в его пальцах. Он снова положил вилку и мельком взглянул на маму. Она смотрела в тарелку, и глаз ее было не видно.
– Перестань, – сказал он Лоуэллу. – Еще рано.
Лоуэлл не обратил на него внимания.
– Я хочу ее навестить. Нам всем нужно ее навестить. Она сидит и думает, почему мы к ней не приходим.
Папа провел рукой по лицу. Обычно он так играл со мной и Ферн: одно движение руки открывало на лице скорбь, второе – радость. Рука вниз – плач, рука вверх – смех. Вниз – Мельпомена, вверх – Талия. Трагедия и комедия, выраженные гримасой.
В тот вечер открылись усталость и грусть.
– Мы все этого хотим, – сказал папа тем же тоном, что Лоуэлл: спокойно, но твердо. – Мы все по ней скучаем. Но думать нужно о том, что лучше для нее. У нее был ужасный переходный период, но теперь она обосновалась в новом доме и счастлива. Встреча с нами только разбередит ее. Я понимаю, ты не из эгоизма говоришь, но ты сделаешь хуже ей, желая сделать лучше себе.
Теперь уже мама рыдала. Лоуэлл молча встал, взял свою тарелку и высыпал всю еду в помойное ведро. Поставил тарелку и стакан в посудомойку.
Вышел из кухни и ушел из дома. Его не было двое суток, и у Марко его не видели. Мы так и не узнали, где он ночевал.
Папа уже не в первый раз приводил эти доводы насчет Ферн. Например, в тот день, когда мы с Расселом и Лоуэллом съездили в старый дом и когда я наконец поняла, что Ферн там больше нет, – в тот день я спросила отца, где же она живет.
Он был наверху, в своем новом кабинете, и меня послали напомнить ему, что начинается “Досье детектива Рокфорда” (Лоуэлл не мог поверить, что “иди в комнату и подумай над своим поведением” на самом деле значит “никакого телевизора”). Я прикинула, что могу забраться на стол и оттуда прыгнуть папе на колени, но я уже один раз просчиталась, уехав из дома без разрешения Мелиссы, и понимала, что папа не в настроении играть. Вместо этого я спросила его о Ферн.
Он поднял меня и посадил на колени, обдав, как обычно, запахом сигарет, пива, черного кофе и олд-спайса.
– У нее теперь другая семья, они живут на ферме, – сказал он. – Там есть другие шимпанзе, так что у нее много новых друзей.
Я тут же заревновала ко всем этим новым друзьям, которые, в отличие от меня, могут играть с Ферн. А вдруг ей кто-нибудь нравится больше, чем я?
И как непривычно: я сижу на одном папином колене, а на другом не сидит для равновесия Ферн.
Он крепко обнял меня и сказал, как скажет потом Лоуэллу, и, наверное, не единожды, что мы не можем навестить Ферн, потому что ее это расстроит, но ей живется хорошо.
– Мы всегда-всегда будем скучать по ней, – сказал он. – Но мы знаем, что она счастлива, а это главное.
– Ферн не любит, когда ее заставляют есть что-то новое, – сказала я. Мы с Ферн были очень разборчивы в еде, поэтому я беспокоилась. – Мы любим то, к чему привыкли.
– Новое тоже бывает вкусным. На свете куча еды, которая Ферн еще не знакома, но может понравиться. Мангустины. Черимойя. Хлебное дерево. Мармеладная пальма.
– А любимую еду ей дают?
– Яблочный пирог. Голубиный горох. Шимпиньоны.
– А любимую еду ей дают?
– Пирожки с батутом. Прыжки с бататом. Марпышки.
– А любимую…
Он сдался и сник.
– Да. Конечно. Любимую еду ей дают.
Я помню, как он это произносит.
Я много лет верила в эту ферму. И Лоуэлл тоже.
Когда мне было лет восемь, меня посетило как будто бы воспоминание. Оно приходило по кусочкам, как паззл, который мне нужно было собрать. В этом воспоминании я еще совсем ребенок, еду с родителями в машине. Мы на узкой проселочной дороге, с двух сторон наседают и хлещут по окнам травы, лютики и зонтики.
На дорогу выбегает кошка, и отец тормозит. По идее, я не могла видеть кошку, так как сидела сзади пристегнутая, но отчетливо помню ее черной с белым животом и мордочкой. Она неуверенно ходит взад-вперед, потом отец теряет терпение, трогается с места и переезжает ее. Помню свое потрясение и протесты. Помню, как мама защищала отца, говорила, что кошка сама не желала уходить с дороги, словно у них действительно не было выбора.