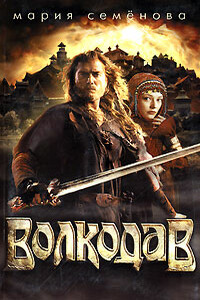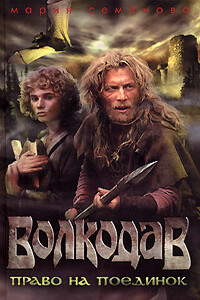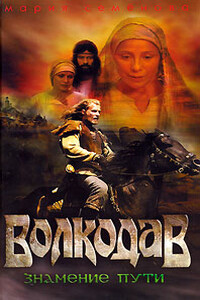Идеальными дровами считались берёзовые, дубовые и ольховые. Средними – еловые и сосновые. Самыми плохими – осиновые. Осина даёт большое пламя: злого и жадного человека сравнивали в Древней Руси с огнём, зажжённым на «трепетице» (осине). Современный человек такое сравнение не вдруг и поймёт, тогдашний же слушатель сразу весьма ярко и образно представлял себе, о чём речь…
Справедливости ради отметим, что после появления дымоходов смекалистые хозяева стали добавлять в дрова хотя бы по нескольку осиновых поленьев: сильное пламя прекрасно вычищало сажу из труб.
Судя по данным письменных источников, наши предки относились к неудобствам жизни в курной избе философски: «Горести дымные не терпев, тепла не видати!» Это не значит, конечно, что народная мысль не работала над усовершенствованиями. Про высокую кровлю уже говорилось; по утверждению многих исследователей, в ней устраивали отверстие-дымогон, открывавшееся с помощью специального шеста. Остроумным приспособлением были полки, тянувшиеся вдоль всех стен примерно на высоте нижней границы распространения дыма. На эти полки сыпалась сверху сажа: их так и называли – «сыпухи». Они разграничивали верхнюю, закопчённую, и нижнюю, чистую, части избы. Пониже сыпух устраивали другие полки – полицы, на которые ставили посуду.
Новгородская изба на жилом подклете. Реконструкция
По мнению некоторых архитекторов, в больших, богатых домах применяли оригинальный способ использования тепла от печного дыма. Изба делилась надвое стенкой; значительная высота крыши позволяла устроить в отгороженной, неотапливаемой части дополнительный, промежуточный «этаж», куда попадали по лесенке – всходу. Стену, примыкавшую к отапливаемому помещению, отлично прогревал дым – и в то же время «горестей дымных» удавалось счастливо избежать. Ряд учёных полагает, что эти-то уютные комнаты и назывались в древности «горницами», ведь «горний» значит «верхний», это слово родственно слову «гора».
Реконструкция печи
О священной, магической силе Государыни Печи было достаточно сказано в главе «Огонь Сварожич». Напомним только, что печь была вторым по значению «центром святости» в доме – после красного, Божьего угла, – а может быть, даже и первым: не случайно же родилось в народе выражение «начать от печки», то есть с самого начала…
Автору этих строк довелось как-то услышать рассказ туристов, прибывших на байдарке в одну из глухих северных деревень. Они расположились ночевать в заброшенном доме, хотя местные жители очень не советовали им этого делать: по их словам, там часто появлялся призрак умершей хозяйки, женщины неуживчивой и недоброй, – мало ли что! Ночь в самом деле прошла неспокойно из-за всяких подозрительных шорохов по углам, но ничего худого с путешественниками не случилось. Жители деревни объяснили это тем, что двое друзей улеглись спать на печи: к печи, по общему мнению, недобрая гостья не смела приблизиться…
Название «красный угол» (он же «большой», «святой», «Божий» и так далее) слышали все. Но не каждый возьмётся объяснить, что же это такое и какие представления связаны с красным углом. Иногда приходится слышать, что это – дальний от входа угол по правую руку. Но стоит заглянуть в книги учёных-этнографов, и легко убеждаешься, что это мнение оказывается верным далеко не всегда.
Причём, как выяснилось, поиски красного угла надо начинать опять-таки «от печки».
Так ещё в середине ХIХ века на европейской части территории расселения русского народа чётко прослеживались четыре разные типа внутренней планировки крестьянского жилища.
Для «восточного южнорусского типа» (Воронежская, Тамбовская губернии, восток Тульской, север Владимирской) характерно расположение печи в дальнем от входа углу; при этом устье печи было обращено ко входу. «Западный южнорусский тип» (Орловская, Курская, Калужская губернии) отличался от восточного тем, что печь была развёрнута устьем к боковой стене.
В «западнорусском» типе планировки (Псковская, Витебская, Новгородская, Смоленская губернии) печь находилась у входной двери и была к ней повёрнута устьем. Аналогичным образом ставили печи в Белоруссии, на Украине, в Польше, в Латгалии, на востоке Литвы, частично в Карелии. При «северно-среднерусском» типе планировки (северные, центральные и поволжские губернии) печь также располагалась у входа, но устье её было обращено в сторону от него, к дальней стене.