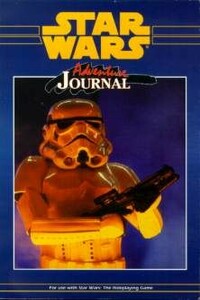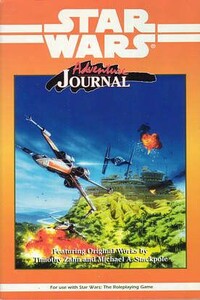А может, комбат и хотел, чтобы ушла? Ведь специально в сторону смотрел, когда перед строем:
— Есть добровольцы из медсансостава?
— Я!
«Сидор» на плечо, карабин, сумка первой помощи. Уже у машины старшина догнал:
— Сдурела, Маришка? Ой, дурища! Хоть портки ватные возьми. Я у Сереги забрал. На вот…
— Да потону я в них. Намокнут, утянут…
— Что так, что этак, все одно потонешь. Ой, дура, дура… Утряслось бы все.
Может, и утряслось. А может, не успело бы. Через три дня батальон своего часа дождался — перебросили на большой плацдарм. 4 декабря атаковали Булганак — где-то на скатах тех высот и похоронили капитана.
Но все это узнается потом, а тогда медленно, томительно выматывая душу, шли к тому крымскому берегу тяжелогруженые боты — иногда впереди, во тьме что-то сверкало. Пролив казался бесконечным, но немцев не было. Ушли, наверное, в такую поганую погоду-то прорыва-то не ждали[70]…
Впереди мелькнуло что-то темное — кажется, склон. Отчетливо блеснул разрыв снаряда или мины — звук не долетел, в ветре затерялся… Где-то правее шевельнулся смутный свет, пополз луч по воде залива — прожектор немецкий.
— Проскочили, — крикнул краснофлотец от орудия. — Везучие вы, девчатки…
Разгружались практически на ощупь, подошла лодка — до берега было рукой подать, но вплотную бот подойти не мог. Метрах в сорока от берега по дну тянулся бар — намытый волнами песчаный вал. Дальше опять глубина. Говорили, в первые ночи высадки уйма ребят-десантников так и потонула. Обвешанные боеприпасами и оружием, в намокшей одежде, утопали в считаных шагах от берега…
Впереди мелькал единственный красный фонарик. К лодкам кинулись темные фигуры бойцов, хватали ящики с медикаментами, подавали по цепочке[71].
— Сюда! Живей! Живей!
— Давайте, подруги, — старший лейтенант-военврач по пояс в воде переносил девушек на камень. Марина, страшно стесняясь своего вещмешка, съезжающего карабина и нелепых брюк, неловко перевалилась через борт в его руки.
— Ничего, главное, проскочили, — сопел военврач, ощупью бредя к камням.
С камней санинструкторы, помогая друг другу, попрыгали на берег. Марина, клуша такая, все-таки черпанула голенищем.
— Чего стоим?! — рявкнул кто-то начальственный из тьмы. — Взяли по ящику — и к складу бегом.
— То сестрички, — сказали сбоку.
— Тьфу, якорем вам в… Кому ж такая умная мысля-то… Ладно, раненых к погрузке…
Несли, кажется, прямо в воду раненых. Кто-то сдавленно стонал, но остальные молчали. Провели человека в одной гимнастерке — голова сплошь в свежей белизне бинтов.
— Капитана осторожнее…
Маленькая светловолосая санинструктор, прибывшая вместе с Мариной, метнулась в воду, на ходу расстегивая ремень с кобурой.
— Сдурела, девка?!
— Да померзнет же, не видите, что ли…
Безмолвного капитана в накинутой на плечи куцей санинструкторской телогрейке усадили, и переполненная лодка скрылась во тьме. Спешно грузили вторую…
— Так, девчата, за мной, — появился распоясанный военврач, с мокрой шинелью на плече. — За нами из санбата пришли…
Марина несла два бикса[72] из нержавейки. Ремень карабина, неловко накинутый поверх вещмешка, тер шею. Впереди стреляли: пулеметные очереди, хлопки миномета, снова очереди. Одна за другой повисали ракеты — не освещали, лишь слепили. Нужно было смотреть под ноги — под обрывом лежали раненые. Много. Было понятно, что всех не заберут. И почему молчат, тоже понятно. Редко в последние дни катера к плацдарму пробивались…
Тогда сержант Шведова в свой первый и единственный раз побывала в штабе медсанбата. Получала назначения. На море шел бой — немецкие баржи обнаружили наши катера и отрезали пути отхода. В штабе слушали. Кто-то должен был пробиться[73]…
* * *
Сержант Шведова не ползала на нейтральную полосу, не проявляла героизм, вытаскивая раненых на плащ-палатке. Траншеи были рядом, раненых приносили их товарищи. А у Шведовой, у беленькой Ленки, у фельдшера Гельмана и Марины Ефимовны (местной, эльтигенской, непонятно как уцелевшей тетки) был Подвал. От 40 до 60 тяжелораненых. Легкораненые не задерживались — бинтовались, ругались и возвращались в траншеи. Кого-то водили в операционную, устроенную за развалинами, у самого берега, лежачих первоочередных туда же таскали. За носилки Гельман с Ефимовной брались — они старше, покрепче, силы имели. Приходил врач-капитан, потом перестал приходить — убило, а остальные врачи были позарез заняты. Гельман в Подвале распоряжался. Вообще он был правильный человек, несмотря на свой нос волосатый и картавость ужасную. Книгу вел, умерших тщательно записывал, имена старался не путать. Регулярно приносил бинты и морфин. Мертвых вытаскивали в крошечную балку за развалинами сарая, присыпали как могли. Потом балки не стало, скорей уж холмик. Сносили в воронки под сломанными яблонями. Марина приноровилась, стоя на коленях, работать лопатой — пережидать бесконечные артналеты было совсем уж невмочь. Потом следующие воронки заполнялись… Обратно в Подвал… Бинтовала, бинтовала, экономя бинты и вату, ворочала беспомощные, кровью и гноем исходящие, или уже остывшие тела. Давала пить, не позволяя обливаться и глотать лишку. С водой было совсем плохо. Оба колодца находились на нейтральной полосе и уж давно были пристреляны румынами. Бойцы ползали туда, за солоноватой, «горчишной», как говорила Ефимовна, водой. Потом командование воду распределяло. Подвалу доставался бидон на сутки. Иногда хлопцы еще фляги своим раненым приносили, делились. Но и дожди шли, и ледок, воняющий взрывчаткой, на лужах наломать было можно, у печи растопить. В самые дурные дни Марина с Беленькой утрами ползали за заборы — там трава оставалась, соскребали изморозь со стеблей в котелки. Гельман ведро с морской водой притаскивал. Мешали-бодяжили травяную воду с соленой — ничего, глотать можно было.