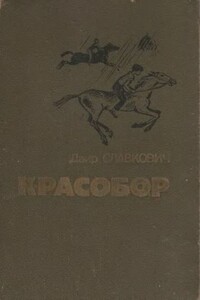- Теперь ваш батька может приходить домой на все готовое, - довольная собой, сказала бабушка.
Так мы и живем: Глыжка поросенка пасет до школы, а мы с бабушкой вскапываем огород. У меня на руках мозоли.
Бабушка все время ворчит:
- Вот-вот! Лодырь за дело, а мозоль за тело. Ты вот глянь только - ни одного мозольчика!
Воткнув лопату в землю, она показывает мне свои руки. Руки у бабушки тонкие - кости, обтянутые кожей, да еще синие вздутые жилы. А ладони большие, как у мужчины. Кожа на них жесткая, отполированная о деревянную рукоятку, а возле самых пальцев она и вовсе ороговела. Где тут вскочить пузырю?
- Почему они такие? - спрашивает бабушка.
- От старости, - схитрил я.
Улыбка у бабушки в глазах тотчас погасла, она обиженно покачала головой.
- От дурости, а не от старости. У дурней всегда руки такие… Да только если б дурней не было, умники бы с голодухи пухли.
Под «умниками» она, конечно, подразумевает нас с Глыжкой.
А над нами кружат аисты. Высоко - под облаками. Если снизу глядеть - тонкая, длинная палочка вроде карандаша и два крыла. Подняться бы вот так самому и посмотреть с высоты, какая она, земля. Говорят, если высоко поднимешься, - люди, как мурашки.
Где-то возле школы играет духовой оркестр. На селе тихо, и торжественные марши слыхать у нас на огороде. Это на трансформаторной будке установили громкоговоритель. Когда марши умолкают, слышен строгий мужской голос, но слов издали не разобрать. Поговорит немного - снова музыка. Что-то она сегодня разыгралась. Может, какой праздник?
- Ага ж, праздник - святые трутни, - все еще сердито говорит бабушка.
Лучше помолчать.
По другой стороне улицы идет старый Давид, быстро идет, так и подскакивает. Что-то прокричал нам издали, помахал рукой. А что он кричал, поди догадайся.
- Слава богу, что мимо, - сказала бабушка. - Сон мне сегодня дурной снился. Будто бобы молотила. Крупные-крупные. Гапа говорит, бобы - это слезы.
- Больше верь своим снам, - откликнулся я.
- А чьим же мне верить? Твоим? Так у тебя же и сны дурацкие.
Ни с какого боку к ней теперь не подъедешь. И все из-за тех мозолей. Копает и копает, даже не разогнется. А мне очень уж охота поговорить, особенно на политику тянет.
- Скоро Гитлера с Геббельсом изловим, - начинаю я, старательно разбивая влажные комья земли: бабушка любит, чтоб было мягко.
- Уж не вы ли с Санькой? - буркнула она и поплевала на руки.
- Зачем - мы? - почувствовал я себя слегка задетым. - Найдется, кому ловить.
- И откуда только ты все знаешь?
- Министр сказал.
- А-а-а, - разочарованно протянула бабушка, но все-таки заинтересовалась: - Ну и что им тогда будет?
Что им будет, я и сам толком не знаю. Надо полагать, по головке не погладят за их делишки. Если верить Министру, так их посадят в клетки и будут возить по всем городам и селам, как зверинец. Клетки, конечно, сделают железные, иные народ разнесет в щепки: каждый захочет хоть ущипнуть. А женщины на собрании в бригаде кричали, что они и за железом тех выродков достанут…
- Не будет ничего этого, - махнула рукой бабушка. Наконец она распрямила спину и вытерла со лба пот. - А если и будет, так до нас не довезут. Никакого Гитлера со всеми его гитлерятами не хватит, чтобы расквитаться на людей загубленных. Копай-ка лучше и не морочь мне головы.
Я копаю, а глаза мои на улице. Гляжу и де верю - Смык бежит. Похоже, что все мои ультиматумы ему нипочем - он и не думает меня бояться. Счастье его, что бабушка рядом, я бы показал ему дорогу. А при бабушке нельзя. И Смык, видно, это понимает. Нахально подбегает к нашему забору и кричит:
- Капитуляция!
Я и головы не повернул.
- Капитуляция! - еще громче повторил Петька.
Что он там за чушь несет? Капитуляция какая-то.
- Чего? - не поняла и бабушка.
- Германия сдалась! По радио передают! - сказал наконец Смык по-человечески.
Так вот чего радио разыгралось! И Давид нам рукой махал, а бабушка говорит - святые трутни! Ну уж извините, чтоб я теперь грядки копал. Да и бабушка воткнула лопату в землю и побежала в хату.
Я забыл, что Петька - мой лютый враг, мы бежим по улице вдвоем и, кого бы ни встретили, кричим в две глотки: