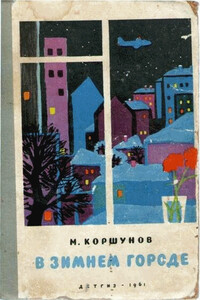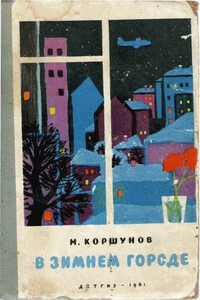- Не разевай рот, - цыкнула на нее Настя, и жерновки загрумкали еще чаще. Настя без устали крутит и крутит их с каким-то сосредоточенным упорством и злостью.
Грум-грум-грум…
Таким спецам, как мы, стоит одним глазом глянуть - и все понятно. Ничего в этих жерновках особенного нет: снизу деревянный кругляк, потом ободок, как в решете, чтобы не рассыпалась мука, сверху - второй кругляк с дыркой посередине, куда засыпают зерно. Правда, сделано все аккуратно, заподлицо. А в остальном больше разговоров, чем толку. У нас с Санькой, может, и не хуже получится.
Гордо глянув на Катю, мы молча, с независимым видом вышли из сеней.
Жерновки мастерили целую неделю. Первый день пилили тупой, неразведенной пилой сырой березовый комель. Не пилили, а мучили. На колоде сидел Глыжка, и мы по очереди кричали на него, что плохо держит. И правда, бревно крутилось под ним, как живое. Вдобавок ко всему, ручки у пилы усохли, то и дело выскакивали, и тогда мы - то Санька, то я - летели чуть ли не через весь двор. Санька один раз шлепнулся в лужу, а я едва не проломил головой забор. Глыжка помирал со смеху, пока не схлопотал подзатыльника. Нашел над чем смеяться.
Бабушка глядела-глядела на нас в окно, не выдержала и пришла на подмогу. Она уселась на комель рядом с Глыжкой, стала подавать советы - где прижимать пилу, а где пускать свободно. Дело пошло веселее.
Отпилив первый жернов, мы посмотрели на него и плюнули. Это у Саньки такой косой глаз. А Санька считает, что у меня оба глядят не туда. И такой тут разгорелся спор, что бабушка за голову схватилась:
- Не нужно мне ни ваших жерновов, ни крупорушек - только умолкните.
А на другой день еще не то было. Нашли мы длинный железный прут, раскалили его в печке докрасна и стали прожигать дырку в жернове, чтобы, значит, потом сыпать туда зерно. В хате дым, в сенях дым. Бабушка бегает за нами то к печке, то от печки и кричит караул. Она уверена, что если немцы не сожгли хату, то мы наверняка сожжем. Дымом пустим и головешек не останется.
Она думает так это просто - сделать жерновки. Да еще такие, как у Мамули.
По нашим с Санькой расчетам, железный прут должен был пронизать жернов насквозь и выйти аккурат посередине. А он вышел черт знает где - на целую пядь в сторону. Кто виноват? Глыжка. Говорили ему: смотри, ровно ли. Насмотрел!
А потом сени превратились в кузню. Глыжка разыскивает нам на пожарищах, на помойках, на чердаке за трубой старые дырявые чугуны. Санька на обухе дробит их в черепки, я забиваю черепки в жернов. А то как же? Деревянные жернова, если не назабивать в них чугунных черепков, молоть не будут. У кого угодно спросите: у Мамули, у дядьки Скока, у деда Николая, у старого или у малого - это любой вам скажет.
Стук, грохот, скрежет, лязг с утра до вечера на всю улицу. И вся улица знает, что мы делаем жерновки. Это Глыжка разнес. Кто ни спросит, зачем ему дырявые чугуны и что это у нас за грохот, он всем докладывает:
- А это мы себе жер-рновки делаем.
Бабушка, правда, так не хвастает. А если кто из соседей проявит любопытство, она только рукой махнет:
- А, второй день чертям бобы молотят.
Эта молотьба утихает разве лишь в том случае, если или Санька, или я, угодив себе по пальцу молотком, бросаем инструменты и принимаемся плясать от нестерпимой боли. Но палец - это чепуха. Вот чугунный осколок из-под молотка - другое дело. Особенно, если он, как Саньке, шарахнет возле самого глаза. И водой мыли, и мокрую тряпку прикладывали - ничто не помогло. Бровь раздуло, глаз красный, как у вурдалака. Так он и домой пошел, закрывши глаз обеими руками, будто боялся, что он выпадет по дороге и потеряется.
Больше Санька в сооружении жерновков не участвовал. Мать завязала ему глаз белым платком и наказала, чтобы ко мне ни ногой.
- Тот сорви-голова тебя доведет, слепым на всю жизнь останешься.
Сорви-голова - это я. Тетка Марфешка уверена, что все Санькины несчастья из-за меня. Я его добру не научу, и - даст бог - она нас разведет.
Даст ей бог нас развести или нет, поживем-увидим, а вот что Санька несколько дней, в том числе и сегодня, у нас во дворе не показывался, так это его счастье. Сегодня с самого утра бабушка долго и озабоченно топталась по хате, заглядывала под скамью, под печь, обшарила все сени, а потом спросила у нас с Глыжкой: