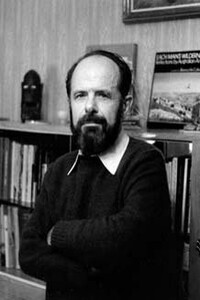Соратник Гука по лекции, лорд Браункер, который был канцлером королевы Екатерины[45] и хранителем ее Королевской печати, издал английский перевод “Компендиума” Декарта в 1653 году, а также был одним из первых, кто использовал логарифмы при музыкальных расчетах. Он также вывел свой собственный музыкальный строй (а как же!), основанный на любимой древними греками эстетической пропорции, известной как Золотое сечение: образующее ее соотношение встречается в живой природе и управляет, например, формой подсолнухов и раковин моллюсков. К сожалению, настройка Браункера оказалась абсолютно непригодной для исполнения музыки – впрочем, это обстоятельство он наскоро объяснил тем, что человеческий слух в любом случае несовершенен, так что недочеты его системы не имеют никакого значения. Так или иначе, его репутация музыкального теоретика от этого ни чуточки не пострадала.
Некоторые исследователи утверждают, что, как и Браункера, Ньютона интересовала вовсе не музыка, а лишь связанные с ней математические вопросы. Эта точка зрения отчасти основывается на замечании, которое ученый сделал под конец своей жизни, жалуясь на вечер, проведенный в опере. Однако в начале XVIII века сетовать на дурное качество оперных постановок было хорошим тоном в интеллектуальных кругах – в этом были замечены такие личности, как Джонсон, Свифт, Аддисон и Стил (Аддисон однажды заявил, что фундаментальное правило оперы звучит так: “Ничто, не являющееся бессмыслицей, не может быть удачно положено на музыку”). Несмотря на критические замечания, в одном из неопубликованных при жизни трактатов Ньютон предстает человеком, искренне озабоченным улучшением состояния музыки. Он даже вручную переписал пособие по игре на виоле, по-видимому, с тем чтобы иметь возможность на практике проверить жизнеспособность своих предложений.
Так или иначе, в конечном счете его решение проблемы музыкального строя оказалось довольно заурядным. Равномерная темперация, утверждал он, “помогает лишь сохранять несовершенства музыки, а философам не пристало подписываться под искажением истинных пропорций”. Рецепт Ньютона сводился к тем же самым громоздким идеям о предоставлении музыкантам более широкого выбора нот для исполнения. Ученый до последних дней был убежден в том, что простейшие соотношения, управляющие музыкальными созвучиями, в самом деле есть дело рук самой природы.
Однако другие исследователи вскоре наконец поставили на этом предположении крест. Через пять лет после издания “Любопытного рассуждения” о силе музыки Роберта Гука математик, химик и врач Даниил Бернулли (чье имя по-прежнему известно студентам научных факультетов благодаря его основным законам гидродинамики) выяснил, что ряды обертонов, резонирующих с основным музыкальным тоном струны, простираются намного дальше, чем это казалось ранее. При пристальном изучении оказалось, что отзвуки октавы, квинты и терции, слышные поверх первоначального тона, это только начало: к ним затем присоединяется великое множество еще более высоких тонов, трудноуловимых в силу своей последовательно уменьшающейся громкости. Эти дополнительные звуки бесконечно расширяют набор обертонов, включая в него и те ноты, которые не считаются гармоничными по отношению к основному тону. Строго говоря, большинство из них как раз создают друг с другом диковинные, диссонирующие созвучия, которые прежде признавались неестественными. Бернулли открыл, что индивидуальный характер того или иного инструмента, дающий ему его неповторимый звук, в значительной степени определяется именно тем, какие из этих обертонов в нем усилены, а какие, наоборот, приглушены.
Таким образом, все колеблющиеся тела так или иначе естественным образом плывут в океане диссонанса. Утверждения, которые наука прежде считала истинными, она же теперь развенчала как выдумки. Мысль о том, что созвучия, образованные в чистом строе – то есть с помощью простых соотношений 2:1, 4:3 и 5:4, – так или иначе диктуются природой, казалось, была теперь отвергнута навсегда.