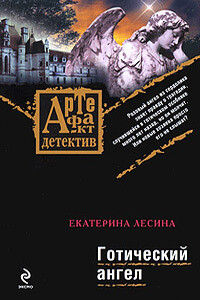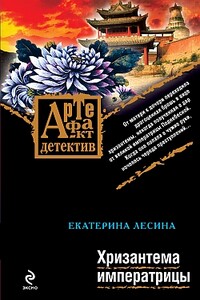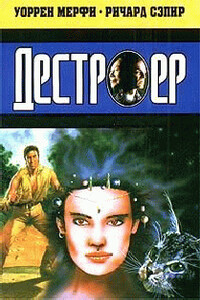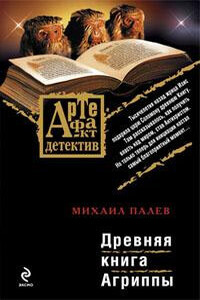Посланник саксонского курфюрста и короля польского Августа, господин Кенигсек, он был невысок собой, строен, по-юношески изящен. Он выгодно отличался от прочих мужчин, окружавших Анну. Его манеры были хороши, голос тих, а взор мягок… и никакой грубости.
И взгляд Анны, задержавшийся на этом мужчине — а в доме ей случалось принимать многих послов, ибо всяк желал засвидетельствовать почтение женщине, которая владела сердцем царя, — подсказал Модесте, что решение ее было верным.
— Он тебе понравился? — выспрашивала Модеста вечером. Отослав служанок, она сама разбирала прическу Анны, вытаскивала шпильки и расчесывала ее волосы гребнем.
— Он… интересен.
Анна боялась признаться самой себе, что в тот миг, когда ясные чистые глаза саксонца остановились на ней, сердце ее замерло. А затем полетело вскачь. И захотелось сразу и убежать прочь, и кинуться ему на шею, прижаться, обнять и уж более не отпускать его.
Прежде она задавалась вопросом, что есть любовь, но только теперь поняла — внутренний жар и холод в руках, беспокойствие внезапное и вместе с тем сладостное предвкушение некоего чуда.
Модеста же, глянув в подернутые поволокой глаза сестры, вдруг испытала сомнение: а правильно ли она сделала, познакомив Анну с этим человеком? Нет, он, безусловно, хорош собой, но вот Анхен… наивна. С нее станется — вообразить недолгую связь любовью всей ее жизни. И не выйдет ли так, что собственной рукой Модеста разрушит их хрупкое семейное благополучие?
— Послушай, дорогая, — сказала она, беря сестру за руки. — Этот мужчина хорош, но помни о том, что у тебя есть Петр…
— Неужели? — грустная улыбка тронула губы Анны.
— Ты его можешь не любить, но, узнай он про любовника, разгневается. Разве ты хочешь навлечь на себя царский гнев? Или на нас с матушкой? Пообещай, что будешь осторожна!
И Анна скрепя сердце дала обещание.
Но видит Бог, до чего же сложно оказалось его исполнить! С ней творилось нечто непонятное, и Анна, прежде холодная, рассудительная, при виде саксонца теряла всяческий разум. Она то вспыхивала жгучей ревностью, думая о том, что не только ей мил этот изящный и добрый человек, то успокаивала себя, вспоминая о царе, то холодела от страха — а ну как узнает Петр?
Не за себя боялась Анна, за Кенигсека.
И страх этот заставлял ее быть осторожной.
Конечно, слухи поползли, слишком уж многие взгляды обращены были на Анну, но она привычно отмахнулась от досужих разговоров, уверенная, что и Петр не станет их слушать.
— Про меня всегда ведь что-нибудь говорили, — обращалась Анна к разлюбезной сестрице своей. — И что? Неужто эти сплетни чем-то отличны от иных?
— Ничем, — поддерживала ее Модеста.
— Тогда — ведь хорошо…
Модеста не была в этом уверена, но признавала: роман этот нежданный преобразил сестру. В ее глазах вспыхнул огонь, лицо сделалось бледным, а губы порозовели. Да и движения обрели некую порывистость, словно Анна пыталась сдержать себя, но не могла.
Не стала она краше, но стала притягательнее.
Петру бы это понравилось.
Впрочем, он, словно позабыв про Анну, не написал ей ни строчки. И если так, то вспомнит ли он дорогую сердцу Анхен по возвращении? Долго мялась Модеста, однако обратилась к матушке Апраксии, про которую слышала разное: и про святость ее, и про то, что святость эта — ложная.
— Погадать? — прищурилась старушка. — А надо ли оно тебе? Свою судьбу наперед знать — мало радости…
— Погадай, — Модеста была неотступна. — Только правду скажи, сколь горька она ни была бы…
— Скажу, скажу… карты не лгут, и мне врать без надобности. Быть тебе при сестрице долго… разделяли вы вместе радость, разделите и горе. Не пугайся, милая, не так уж тяжко тебе придется. Откроются ворота, выпустят голубку, и полетишь ты к мужу своему, в края холодные…
К мужу Модесте вовсе не хотелось возвращаться.
— Будешь при нем… а после встретишь человека с короной на челе, который вновь твою жизнь переменит.
— Царя?
— Царицу…
Модеста знала царицу, случалось видеть ее издали, и женщина эта не вызывала в ее душе ничего, помимо брезгливого удивления: неужто возможно той, кто стоит на вершине самой могучей державы, быть такою… невзрачной?