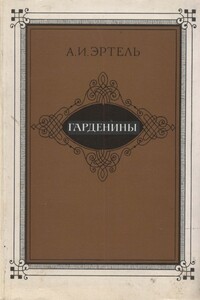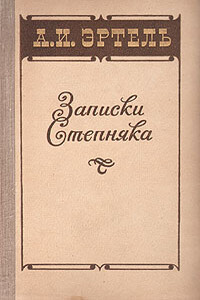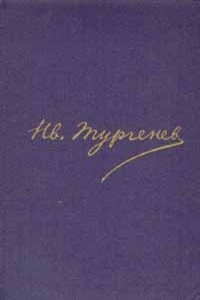– Три рублика, три… Об этом что говорить… Десять с полтинкой, значит, будет, ежели по-старому, – на сигнации… Да-а, дорого-онек!.. Сигней участливо чмокнул губами и, обтерев ложку, отложил ее в сторону.
Появилось другое блюдо – вареная рыба.
Чухвостиков положительно затуманился. Я и забыл сказать, что он был-таки скупенек. Теперь его, по всей вероятности, мучила невозможность продать по хорошей цене те десять-пятнадцать четвертей овса, которые нужно было удержать для жеребца. Впрочем, мужичок Сигней не долго держал его в таком состоянии; задумчиво и печально съев две-три рыбки, он вдруг поднял голову и, с сожалением взглянув на Андрея Захарыча, благодушно произнес:
– Аль уж выручить тебя, барин?.. Уж одно к одному… Господа-то вы хорошие!.. Теперь Миколая Василича вызволил, уж и тебя… Нам бог пошлет… Найпаче по душе старайся… а уж там… (Сигней не договорил, что «там», но с молодецкой пренебрежительностью махнул рукой) куплю я у тебя жеребчика-то, куплю… Хорош барин-то!.. Видно, уж надо ослобонить… Завтра прибегу, посмотрю… Не горюй… Я уж вызволю, не таковский человек… Мы еще, слава богу, покамест бог грехам терпит – в силе…
Андрей Захарыч сразу просветлел и как-то изумительно обрадовался. Я даже удивился этой сильной радости. Верно, ему уж до жадности захотелось тех трех рублей за четверть овса, которые, по словам Сигнея, охотно платят на базаре.
– Бач-к-а! – послышался с хутора грубоватый, немного охрипший голос.
– Митроха-а! – откликнулся Сигней.
– Где ты?
– Подь сюда-а!
– Ты уж, Миколай Василич, дозволь малому ушицы-то похлебать, обратился ко мне Сигней, – тоже сын ведь… Грубоват хошь парень-то, а все сын…
Я, конечно, дозволил «грубоватому парню» похлебать ушицы.
Митроха имел большое сходство с отцом, но сходство это ограничивалось только одной наружностью: он был такой же низенький, такой же коренастый и щекастый, у него были такие же маленькие, прищуренные глаза и насмешливые губы… Но отцовского духа, – духа лицемерия и лжи, не было заметно в его красивых чертах. Глаза его глядели не умильно и ласково, а вдумчиво и строго, на губах играла не подобострастная улыбка, перемежаемая лукавой насмешливостью, а одна только жесткая ирония. И речь его, в противоположность речи отцовской, не изобиловала мягкими тонами. Она была груба, безыскусственна и – что мне показалось тоже странным – даже дерзка, когда обращалась к отцу или ко мне с Андреем Захарычем.
Никому не поклонившись, он сел за уху.
– Купил палицу-то? – спросил его отец.
– А то как же! За ней ездил – стало быть, купил, – нехотя ответил Митроха.
– Стальные есть? – осведомился я.
– Всякие есть. По деньгам…
– Что, говорят, в Лущеватке дьячок погорел? – полюбопытствовал Андрей Захарыч.
– А я почем знаю? Може и погорел…
Сигней сокрушительно развел руками и сладко произнес, как бы извиняясь перед нами:
– Грубоват он у меня, грубоват, господа поштенные…
– Не стать лебезить по-твоему, – буркнул Митроха.
Сигней только покачал головою и немного погодя ушел. Чухвостиков прозяб и тоже пошел в дом. Я остался докурить папироску.
– Эка отец-то у тебя добряк какой? – сказал я Митрофану.
– Добёр! – иронически ответил он, – привык в бурмистрах-то лебезить…
– Нешто он был бурмистром?
– Как же! Когда еще барские были, он пять лет ходил в бурмистрах… Так и пропадал в барских хоромах… Добёр!.. Теперь вот ему лафа-то отошла – барин сдал именье-то!.. А то, бывало, бесперечь к нему шатается – чаи распивать…
– А ты, должно, не любишь отца-то? – засмеялся я.
– Любить-то его не за что, – угрюмо ответил Митроха, – из-за него и так на миру проходу нет… Уж он всем намозолил глаза-то… Это еще, спасибо, у нас народ-то в достатке, в двориках… А то бы он покуражился!.. И то, никак, по окрестным селам должников завел… И диви бы чужие… Вот свата Гришку как околпачил!
– В земле? – спросил я.
– Вот в твоей-то. Ты ему сдал по тринадцати целковых, и чтоб десять рублей об троице… Чего еще! по нонешнему времени какая это цена… Так нет, батя-то мой и тут его принагнул… Задатку тебе Григорий четыре целковых отдал, так это уж от бати пойдет… А свату ничего!