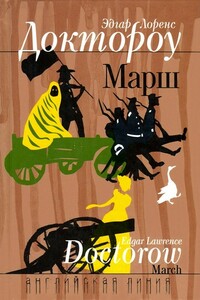Ты и в самом деле отмочил такой номер?
Как я сказал, так и было. До того случая у меня ни разу не получалась нормальная стойка на руках. В Овальном кабинете я был другим человеком.
Признаюсь: когда Эндрю, пошатываясь, стоял на ноющих от боли руках, ступни у него двигались туда-сюда, как челноки ткацкого станка, а из глаз текли слезы: то ли от напряжения, то ли от возникшего у него в уме образа улыбающейся Брайони, которая оценивающе смотрела на него в упор своими детскими голубыми глазами.
Что она говорила?
Я слышал ее голос, беззвучный голос: «Я иду на пробежку, Эндрю. Уилла на завтрак любит яблочное пюре».
А потом дверь закрывается, и по дуге — балетный прыжок в огонь.
Наверно, я застонал, к голове прилила кровь, но мне казалось делом чести как можно дольше продержаться вверх ногами. Те трое, президент, Каторжник и Скунс, встали со своих кресел. Каторжник подошел к президентскому рабочему столу и закричал в телефонную трубку. Силы у меня кончились, но приземлился я не по правилам, весьма болезненно, с грохотом, и, как мне сейчас видится, почти в тот же миг двое морских пехотинцев в парадной форме вздернули меня на ноги и заломили мне руки. Так что день прошел для меня под знаком интенсивных физических нагрузок.
По-видимому, да.
Что вы сказали?
Я с тобой согласился.
Но это еще не все. Сомневаюсь, что до меня кто-либо делал стойку на руках в Овальном кабинете. На самом деле, это был миг триумфа. Я на мгновение поднялся над своей типичной приниженностью, над стандартным пиететом гражданина и одной перевернутой позой добился паритета с вершителями судеб моей страны. Я видел будущее, а они — нет. Подозреваю, что из рассказа о моей жизни вы не сделали вывода о том, что я горячо интересовался политикой. Когда меня скрутили морпехи, Каторжник и Скунс стали решать, как со мной поступить. И распорядились взять меня под арест. Скунс твердил, что я угрожал жизни президента. Вышвырните отсюда этого юродивого, распорядился он.
Скажи лучше — Блаженного, заметил я.
Ты и впрямь ощущал себя в такой роли?
А как еще я мог себя ощущать, если мой старинный приятель оказался Самозванцем? Вне всякого сомнения. А мне больше не суждено было становиться другим человеком в зависимости от ситуации. Я чувствовал, как мой мозг превращается в меня, — мы стали единым целым. Когда меня волокли к дверям, я повернулся и сказал то, что подобало Блаженному: «Сейчас ты — наибольшее зло, но это временно: другие будут намного хуже. Возможно, придут они не завтра. Возможно даже, не в следующем году, но ты подсказал нам, как оказаться в Сумрачном лесу»[37]. Кажется, я тогда процитировал Данте. Но мой сосед по комнате слушать не захотел. Да ладно тебе, Андроид, крикнул он мне вслед, не заводись. К чему это было: он хотел, чтобы я вернулся? Дал ему свое благословение? Но что я мог поделать? Юродивый только тогда становится Блаженным, когда оплакивает судьбу свой страны. Я распрямился, кивнул морпехам, и меня увели.
Алло, док, давно я здесь торчу?
Порядочно.
И вы не собираетесь объяснить, где я нахожусь?
Не имею права.
Но я не дома.
Откуда ты знаешь?
Воздух. В нем есть какая-то мягкость. Она придает весеннему воздуху плотный сладковатый привкус земли. В Новом Свете я не сталкивался ни с чем подобным. По-видимому, меня окружает холмистая загородная местность с полевыми цветами и увитыми виноградом беседками. Заглянуть поверх стены не могу, но в прогулочном дворе слышен птичий щебет — это не те птицы, что водятся в наших краях. К тому же темнеет здесь поздно. Думаю, вы, братцы, сослали меня в европейское Средиземноморье, и это само по себе неплохо… пытка не изощренная и ограничена моими размышлениями о том, что со мной произошло… кроме вас, поговорить здесь не с кем, адвоката мне не назначили, держат в заключении без суда и следствия, причем уже неопределенный срок. Звездное, так сказать, время. Я приговорен вертеться вместе с планетой и отсчитывать солнца, луны, времена года… Вы серьезно считаете, что я угрожал жизни президента?
По большому счету, нет.
И все же я не осуждаю вас за то, что вы подчиняетесь приказам и ведете себя как ничтожество. А знаете почему?