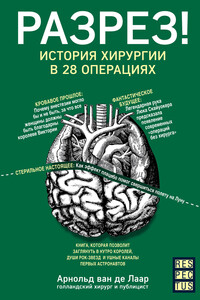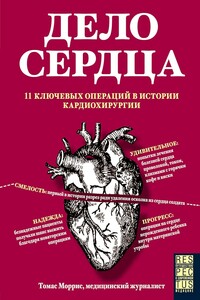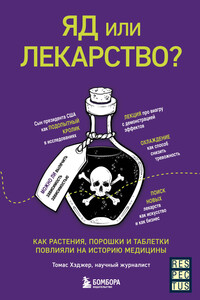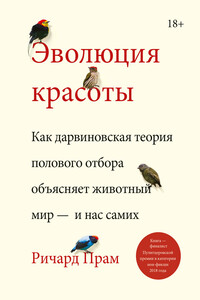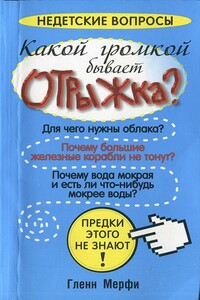Несколько недель спустя, в апреле 1874 года, Бартолоу опубликовал краткий отчет об эксперименте. Статья сразу же вызвала бурю не только из-за своего драматического содержания, но и из-за явно неэтичного способа проведения эксперимента. Американская медицинская ассоциация критиковала работу Бартолоу за то, что она включала в себя опыты на человеке, а «Британский медицинский журнал» опубликовал частичные извинения Бартолоу, где врач сожалел, что результаты «были получены за счет некоторого вреда для пациента». Хирург даже признал, что повторять подобные испытания «было бы в высшей степени преступно» [44]. Британский нейрофизиолог Дэвид Ферриер предупреждал, что, как бы ни были интересны выводы Бартолоу, поскольку «процедура опасна для жизни, то не заслуживает похвалы и вряд ли будет повторена» [45].
Оставляя в стороне серьезные этические проблемы, стоит сказать, что ученые были заворожены исследованием Бартолоу, потому что оно оказало действенную поддержку некоторым недавним, весьма спорным выводам о функциях мозга. Хотя в начале века Альдини продемонстрировал, что внешняя электрическая стимуляция головы может вызвать движение, бытовало общее мнение, что полушария головного мозга совершенно не реагируют на такие раздражители. В отличие от нижних отделов мозга, никакая физическая, химическая или электрическая стимуляция данных областей не могла вызвать ответную реакцию.
Но в 1870 году два молодых немецких врача, Густав Фрич и Эдуард Гитциг, показали, что электрическая стимуляция внешней части коры головного мозга собаки может вызывать очень специфические движения [46]. В своей медицинской практике Гитциг использовал модную внешнюю электротерапию для лечения легких нервно-мышечных симптомов, таких как судороги и паралич в легкой степени. В 1869 году врач дал пациенту слабый удар током, одновременно поместив электроды на ухо и на затылок. Гитциг был удивлен, заметив, что мышцы вокруг глаза сокращаются. Если бы электроды находились по обе стороны глаза, Гитциг счел бы этот эффект классическим примером электрической стимуляции мышцы. Но вместо этого он заподозрил, что электричество проникло в мозг и каким-то образом стимулировало «централизованную функцию», отвечающую за движение[86].
Опытный электрофизиолог Гитциг объединился с Фричем, чтобы выяснить, можно ли стимулировать открытую кору головного мозга собаки и получить специфическую реакцию. В эксперименте, который проводился на туалетном столике, принадлежащем фрау Гитциг, использовались очень тонкие электроды, разработанные Дюбуа-Реймоном. Этот опыт стал частью целой волны инвазивных физиологических исследований, которые стали возможными с 1846 года, в связи с широким внедрением анестетиков и заявлением Джозефа Листера[87] в 1867 году, что простые антисептические процедуры могут снизить риск развития послеоперационных инфекций. Фрич и Гитциг использовали очень слабые токи, которые были «едва ощутимы, когда электроды прикладывали к кончику языка», чтобы стимулировать тонкий наружный слой фронтальной части коры подопытного животного, находившегося под анестезией [47]. В ходе эксперимента они обнаружили, что на противоположной стороне тела собаки сокращались различные мышцы. Наблюдаемый эффект был сильно локализован – при стимуляции одного участка мозга двигались передние лапы, другой заставлял дергаться морду и еще один – мышцы задних лап [48].
Известно, что такие реакции, как коленный рефлекс, происходят без участия мозга.
Совершенное Фричем и Гитцигом открытие шло вразрез с научной базой, просуществовавшей больше века, и предполагало, что функциональная локализация производства поведения в мозге выходит далеко за рамки зоны порождения речи, обнаруженной Брока. Известно, что стереотипные (безусловные) реакции, такие как коленный рефлекс[88], происходят без участия мозга. Но движения, вызванные прямой электрической стимуляцией мозга, были больше похожи на нормальное поведение, чем на мелкие повторяющиеся рефлекторные движения. Учитывая, что кора головного мозга часто рассматривалась как местопребывание мысли и воли, открытие Фрича и Гитцига заключалось в том, что они определили место произвольного движения, хотя исследователи воздержались от столь громких заявлений.