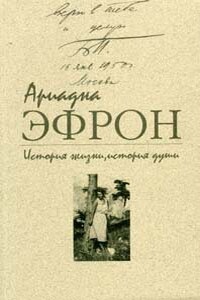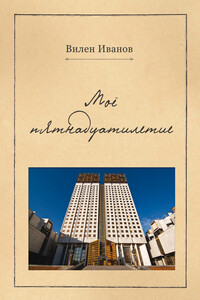«…Если бы мне сейчас пришлось умереть, я бы дико жалела мальчика, которого люблю какою-то тоскливою, умиленною, благодарною любовью. Алю бы я жалела за другое и по-другому…
Аля бы меня никогда не забыла, мальчик бы меня никогда не вспомнил…
Буду любить его – каким бы он ни был: не за красоту, не за дарование, не за сходство, за то, что он есть».
И – чуть более поздняя запись:
«Мальчиков нужно баловать, – им, может быть, на войну придется».
Марина Цветаева и Аветик Исаакян впервые встретились в Париже, осенью 1932 года, у друзей Цветаевой, Владимира Ивановича и Маргариты Николаевны Лебедевых, живших на тихой улочке Данфер-Рошро; вытекавшая из толчеи бульваров Распай и Монпарнас и вливавшаяся в сутолоку бульвара Сен-Мишель, улочка эта оказывалась внезапно тихой и голубой, как ручей с неприметным течением; тихой – потому что одна сторона ее стояла сплошным, в длину и ввысь тянущимся отвесом стены приюта глухонемых; голубой – от навсегда скопившейся в этом ущелье тени: солнце туда не заглядывало. Дома, выстроившиеся напротив стены, казались такими же безвозрастными и безликими, как она; время сгладило все выступы с их фасадов, стерло все краски. Незрячие окна, полуприкрытые деревянными ступенчатыми ставнями, вперялись в глухонемую стену.
Прохожих было мало, и они не спешили; сама улица, являвшая собой некую звуковую и цветовую паузу между кварталом художников и кварталом студентов, как бы вынуждал замедлить шаг и освободиться от напряжения…
Когда Цветаеву однажды спросили, какое место в Париже любит она больше всего, она – для всех неожиданно – назвала именно эту, такую, собственно говоря, невзрачную улочку: «За тишину и за Лебедевых».
В. И. Лебедев был редактором одного из выходивших (сначала в Праге, потом в Париже) «толстых журналов» на русском языке и публиковал щедро и безотказно цветаевские произведения, несмотря на то, что множеству из них, столь несозвучных эмиграции, труднее было пролезть в эмигрантскую печать, чем библейскому верблюду в пресловутое игольное ушко.
И коренастый, плотный, с веселыми разбойничьими глазами и черной разбойничьей бородой, деятельный и азартный Владимир Иванович, и кроткая, полная неторопливой и строгой грации жена его, Маргарита Николаевна любили Цветаеву и были ей подлинными друзьями; она чувствовала себя у них, в их темноватых пахнувших воском и книгами комнатах как дома, нет – лучше, распрямленное; слишком труден и нищ был ее быт, слишком удручал он ее бытие, чтобы именно у себя дома могла она быть вполне самой собой.
Не помню сейчас предысторию отношений Исаакяна и Лебедевых: по-видимому, знакомы они были давно. Во всяком случае в тот осенний день 1932 года Исаакян сидел за лебедевским обеденным столом не как новый гость, а как свой человек, и слова, которыми он обменивался с хозяевами, показались мне привычными и о привычном; а может быть, причиной тому была вообще свойственная Исаакяну (по крайней мере на людях) сдержанная непринужденность. Мне довелось встречать его еще несколько раз в иной обстановке и в ином окружении, и всегда он на все и всех глядел серьезно, свободно и без любопытства, словно уже все перевидал и переслушал, словно все ему не впервой и не в новинку.
Да так оно, вероятно, и было.
Сдержанна была в тот день и Цветаева – как при каждом новом знакомстве. Иногда такой – держащей на расстоянии – оставалась она и в дальнейшем, навсегда замораживая собеседника; иногда раскрывалась с детской доверчивостью, но никогда – с первого взгляда; да и этим самым первым взглядом ярко– и светло-зеленых глаз – одаривала не сразу. Она сперва к собеседнику прислушивалась; вполоборота, опустив глаза, чуть нахмурившись – вникала в голос, впивалась в явный и тайный смысл слов, на слух определяя друга, недруга или равнодушного; задавала вопросы или отвечала на них сжато, холодно и чрезвычайно учтиво: то была обманчивая холодность и опасная учтивость – ненадежная завеса, из-за которой в любое мгновение мог сверкнуть язычок пламени.
Беседа – как и приличествует застольной – шла обо всем и ни о чем, казалось, она обтекала обоих поэтов, не задевая; потом стали возникать островки общих знакомств, дружб, пристрастий и неприязней – обоюдная разведка именами. Помню, как всплыло в разговоре имя приятельницы Исаакяна и Цветаевой – Саломеи Андрониковой-Гальперн, грузинки, петербуржанки и парижанки, о которой Исаакян сказал, что женщины ее породы рождаются раз в столетие, когда не реже, нарочно для того, чтобы быть воспетыми и увековеченными; конечно, вслед за Саломеей возник и Мандельштам с посвященной ей «Соломинкой», и история с «Историей одного посвящения». Помню, как заговорили о Бальмонте (он и его жена Елена были желанными гостями в этом доме) и как тетивой-струной – напряглась Цветаева: она к Бальмонту относилась ревниво-бережно и нежно, и все нежнее и бережнее по мере того, как он старел, слабел, седел, сдавал – и не выносила, когда начинали ругать его стихи. Ругали же, кажется, все, за исключением жены и дочери, ругали по той же инерции (анти-моды), по какой когда-то восхищались.