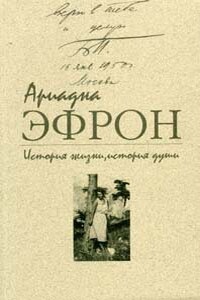Кому, как не ей, было знать, сколь не вечен единственный читатель, даже если он поэт, тем более, если он поэт… Ведь она сама бывала столь непостоянна в своих высоких верностях!
Пока же они оба стремились друг к другу, рвались к несбыточной встрече, обменивались рукописями только что написанного, книгами, журнальными публикациями; перехлестываясь через письма, они делались достоянием многих; Пастернак, «обобществления» которого страшилось Маринино воображение, вскоре стал заочным членом нашей семьи, тем самым «диким и ручным племянником и дядей»; другом близких Марининых и Сережиных друзей; поэтом, читаемым и любимым той горсткой людей, чьи лица и души уже поворачивались к новой России. Первым изданием, опубликовавшим в начале 20-х годов на чужбине стихи советских поэтов (само собой разумеется, и Пастернака), был пражский студенческий журнал на русском языке «Своими путями», редактировавшийся моим отцом…
В 1924 году Пастернак опубликовал несколько цветаевских стихотворений «чешского периода» в альманахах «Русский современник» и «Московские поэты»; остальные же ее произведения, доходившие, из рук Пастернака и Эренбурга, главным образом, до советских поэтов, встречали у многих из них то признание и понимание, каких ей не случалось встречать и не привелось дождаться от эмигрантских «собратьев». Вот, к примеру, отрывок из письма Семена Кирсанова, написанного им в августе 1926 года своему другу Эмилю Фурманову:
«…Помнишь, мы читали М. Цветаеву? Так вот: Пастернак получил из Праги ее две вещи – «Поэма Конца» и «Крысолов». По мнению Асеева, Пастернака, моему и других – это лучшее, что написано за лет пять. «Поэма Конца» нечто совершенно гениальное, прости за восторженность! «Крысолов» – верх возможного мастерства. Если мне удастся переписать их – я тебе пошлю отрывки…»
В 1927 году на вопрос Пастернака, не страдает ли Марина от своей – в эмиграции – безвестности, от неправомерности этой безвестности и непризнанности, она отвечает:
«…Ты взволновался о славе, теряю свой «час славы». Есть ли в этом горечь? Досада, пожалуй, И вот почему: когда я пишу, я ни о чем не думаю, кроме вещи. Потом, когда написано – о тебе. Когда напечатано – о всех.
И вот, мое глубокое убеждение, что – печатайся я в России, меня бы все поняли. Да, да, все – из-за моей основной простоты; потому что каждый бы нашел свое, потому что я – много, множественное. И меня бы эта любовь – несла. Просто – в России сейчас есть пустующее место, по праву – мое…»
Объясняя, почему она считает себя более «доходчивой» до российского читателя, чем Пастернак, Марина пишет: «Ты читателя в себя вводишь, я – вывожу, раскрепощаю. Я – одна секунда в жизни читателя, толчок. Дальше – его дело, действие. Ты видимое превращаешь в невидимое (явное делаешь тайным), я – невидимое в видимое (тайное – явным).
Но, чтобы вернуться к славе – моих книг в России нет, и поэтому поэта – нет.
…Мой отрыв от жизни становится все непоправимее. Я «переселилась», унося с собой все страсти, всю нерастрату – не тенью, обессиленной жизнью, а живою – из живых…»
Этой беде, этому отрыву «из живых» Пастернак помочь не мог – да и кто мог, да и что – могло? Оторвавшись от России, не влившись в эмиграцию, Марина постепенно становилась как бы неким островом, отделившимся от родного материка – течением Истории и собственной судьбы. Становилась одинокой, как остров, со всеми его (своими!) неразведанными сокровищами…
Аля. Девочка с «венецианскими глазами».
Пастернак остро и болезненно ощущал эту отторгнутость Марины, неумолимую последовательность, с которой обрывались связующие ее с Россией нити живых человеческих отношений, и поэтому, узнав об отъезде за границу – по приглашению Горького – Анастасии Ивановны Цветаевой (которую хорошо знал), – обрадовался предстоящему празднику свидания сестер. «Конечно, ты уже списалась с Асей и поражена этой сбывшейся несбыточностью не меньше моего… Известие это привез брат, да и то не сам говорил с ней по телефону, а соседи передали… Тот факт, что она не известила меня о поездке заблаговременно, при вероятной суматохе последних сборов, не стоит упоминания. Я что-нибудь может быть передал бы! Все равно, ей есть что рассказать и передать, если только избыточная, переливающаяся через край полноподробность встречи с тобой не вытеснит памяти о всех Мерзляковских и Волхонках…» (А. И. Цветаева жила в то время в Мерзляковском переулке, а Борис Леонидович – на Волхонке.)