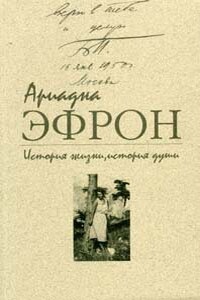…Что сказать о своей жизни? Живу изо дня в день. Каждый день отвоевывается, и каждый приближает нашу встречу. Последнее дает мне бодрость и силу. А так все вокруг очень плохо и безнадежно. Но об этом всем расскажу при свидании. Очень мешают люди, меня окружающие. Близких нет совсем…
Надеюсь, что Илья Григорьевич вышлет мне Ваши новые стихи. Он пишет, что Вы много работаете…
Простите, радость моя, за смятенность письма… Берегите себя, заклинаю Вас. Вы и Аля – последнее и самое дорогое, что у меня есть.
Храни Вас Бог.
«Родная моя девочка! Я получил письмо от И. Г., он пишет, что видел тебя, и передал мне те слова, что ты просила сказать мне от твоего имени. Спасибо, радость моя, – вся любовь и все мысли мои с тобой и с мамой. Я верю – мы скоро увидимся и снова заживем вместе, с тем, чтобы больше никогда не расставаться…
Благословляю и целую тебя крепко.
«С сегодняшнего дня – жизнь. Впервые живу» – записала Марина в тетради, и тут же: «Письмо к С. – Мой Сереженька! Если от счастья не умирают, то – во всяком случае – каменеют. Только что получила Ваше письмо. Закаменела. Последние вести о Вас: Ваше письмо к Максу. Потом пустота. Не знаю, с чего начать. – Знаю, с чего начать: то, чем и кончу: моя любовь к Вам…» (оборвано).
Чуть погодя – письмо к Ахматовой: «Моя Радость! Жизнь сложна. Рвусь, потому что знаю, что жив – 1 июля письмо, первое после двух лет молчания. Рвусь – и весь день обслуживаю чужих. Не могу жить без трудностей – не оправдана. Чувство круговой поруки: я – здесь – другим, кто-то – там – ему… Чужие жизни, которые нужно устраивать, ибо другие – еще беспомощнее (я, по крайней мере, веселюсь!) – целый день чужая жизнь, где я, может быть, и не так уж необходима…
Пишу урывками – как награда. Стихи – роскошь. Вечное чувство, что не вправе. И – вопреки всему – благодаря всему – веселье, только не совсем такое простое, как кажется…»
Кто же были эти «чужие»? Чаще всего – действительно чужие, мимохожие люди, случайно прибивавшиеся к Марининому порогу, ютившиеся у нас, как на полустанке, отогревавшиеся у нашей печурки, подкреплявшиеся (но не насыщавшиеся!) нашим хлебом и нашей кашей; некоторых, беспомощных до святости, «поставляла» Марине ее сестра Ася, жившая тогда в Крыму; некоторые прибивались сами; некоторых сама Марина, обладавшая безошибочным чутьем на (даже сокровенные) нужду физическую и беспризорность душевную, подбирала и подпирала плечом… Отдышавшись, чужие уходили, приставали к более надежным берегам; другие же, редчайшие одиночки, уходя – все равно оставались своими, пусть только в памяти.
Ну а стихи – стихи писались, несмотря ни на что и благодаря всему, будучи не «роскошью», и даже не насущностью, а – неизбежностью. Писались сквозь все препятствия и отвлечения – их Марина умела отстранять, раздвигать, как раздвигала посторонние предметы, нараставшие на рабочем ее столе, чтобы освободить место для локтей и тетради.
Со дня получения письма от Сережи, письма, определившего ее решение ехать к мужу, – и до дня отъезда Мариной было создано свыше ста стихотворений, поэма «Переулочки», план и первая глава поэмы «Мулодец», главы первого варианта поэмы «Егорушка», целое действие – к сожалению, утраченное – пьесы, условно названной «Давид», оставшейся незавершенной, множество дневниковых записей, не считая работы над увозимым с собой архивом, над рукописями, сдаваемыми в печать в Москве, и десятков и десятков писем, являвших собой в большинстве своем подлинные образцы цветаевской прозы.
По роковому стечению обстоятельств, Марина покидала Россию именно тогда, когда Россия, вместе с революцией ворвавшаяся в ее творчество, внедрилась в нее всей своей много– и разноголосицей, всей народностью своих говоров, речений и просторечий, величальных песен, надгробных плачей, заговоров от сглазу и прочих ворожб.
Воспитанная в традициях конца века, выросшая под надзором бонн, учившаяся в швейцарских пансионах, воспринявшая языки французский и немецкий наравне с родным, Марина, естественно, в совершенстве владела русским литературным языком, языком интеллигенции, на нем, в юности, и писала, зачастую оттачивая его на грациозный ростановский лад или придавая ему гетевскую торжественность; но все это были языковые «вершки», а не «корешки», корешки же, сама народная речь таилась, до поры до времени, опять-таки в литературе, услышанная, отраженная и донесенная другими – классиками и современниками.