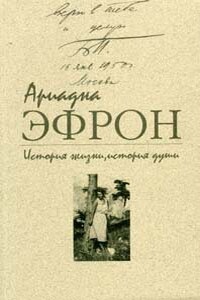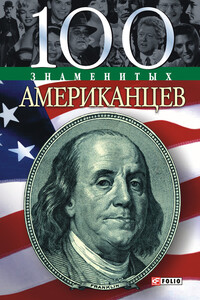С Ариадной. 1924 г.
В Лавку она приходила редко, в основном тощего приработка ради, – с книгами на продажу или с автографами на комиссию; «на огонек» не забегала, «Студию Итальяно» – своего рода клуб, конкурировавший с Дворцом Искусств, – не посещала. Несколько роднее ей был «Дворец», открытый всем литературным течениям, веяниям и ветрам той поры, – с разноголосицей его вечеров и дискуссий, равноправным и действенным участником которых она была.
«Лавочники» относились к Марине в общем терпимо – она к ним тоже – но, за исключением, пожалуй, Грифцова и Осоргина, не любили, она их, за тем же исключением, – тоже.
Самыми длительными и сомнительными были ее отношения с писателем Б. К. Зайцевым – дружелюбно-неприязненные в России, утратившие даже видимость дружелюбия за границей; и в самую лучшую пору этих отношений Марину безмерно раздражали зайцевские добродетели, а его – цветаевские недостатки, к которым, впрочем, он относил и все ее творчество. Он не прощал ей ее крайностей, она ему – его золотосерединности.
Отношения эти усложнялись тем, что Борис Константинович и его жена Вера много помогали Марине в 20-е годы; если Вера, с которой Марина искренне дружила, оказывала ей эту помощь со всей простотой и душевной щедростью, то действия Бориса Константиновича несколько отдавали благотворительностью, втайне осуждающей чужое (чуждое!) неблагополучие и – въяве – снисходительной к нему.
Благотворительность же – во всех ее (унизительных) нюансах никогда не вызывала у Марины ни малейшего чувства благодарности, может быть потому, что она слишком часто бывала вынуждена прибегать к чужой помощи, в то время как помощь должна приходить сама.
Сверх того, Зайцев в эмиграции не простил Марине «большевизма» ее мужа, который расценил как ее собственный, к каковым обстоятельствам Вера Зайцева и дочь ее Наташа, моя подруга детства, отнеслись без предвзятости; с ними мы продолжали общаться поверх всех внутриэмигрантских частоколов…
Помню, читая какой-то зайцевский «подвал», Марина сказала: «Смесь сусальности со злобой». Про внешность Бориса Константиновича говорила: «Профиль – дантовский, а брюшко – обломовское!» – хотя Зайцев был довольно худощав.
Ни одной московской встречи Марины с другим основателем Лавки В. Ф. Ходасевичем я не помню, да и она о них не говорила. В эмиграции они – стойкий Классик и стремительный Неоромантик (оба – «пушкинисты», на свой, другому противоположный лад) – были на ножах, но в середине 30-х годов сблизились, распознав друг в друге поэтов. Сблизились по тому же самому закону, по которому сама поэзия, во всей ее разноголосице, обретает однажды единое русло. И оба были счастливы, что, как писал Ходасевич Марине, «встретились прижизненно, а не в каком-нибудь посмертном издании», как это слишком часто случается с поэтами, современниками лишь по календарю. Главное же чудо их поздней дружбы заключалось в том, что, возникнув и перечеркнув былую вражду, она утвердилась в пору самого великого одиночества Марины, самого великого противостояния эмиграции, в которую врос Ходасевич, но над которой сумел, хотя бы в этом случае, подняться во весь свой человеческий и поэтический рост.
Умер Ходасевич в июне 1939 года, вскоре после возвращения Цветаевой в СССР. О смерти его она не знала и не узнала, рассказывала мне о нем – живом и показывала переписанные ею в свою черновую тетрадь его стихи, начинавшиеся словами: «Был дом, как пещера».
Под ними была приписка: «Эти стихи могли бы быть моими. М. Ц.».