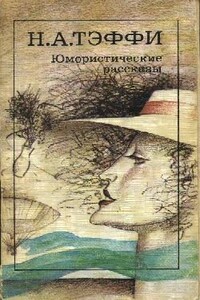В «Навьих чарах» он предполагал вывести Христа, который должен был явиться как светский господин, даже с визитной карточкой «Осип Осипович Давидов». Но до этого в романе дело не дошло. Должно быть, одумался или не справился.
Когда мы познакомились ближе и как бы подружились (насколько возможна была дружба с этим странным человеком), я все искала к нему ключа, хотела до конца понять его и не могла. Чувствовалась в нем затаенная нежность, которой он стыдился и которую не хотел показывать. Вот, например, прорвалось у него как-то о школьниках, его учениках: «Поднимают лапки, замазанные чернилами». Значит, любил он этих детей, если так ласково сказал. Но это проскользнуло случайно.
Вспоминала его стихи, где даже смех благословляется, потому что он детский.
Я верю в творящего Бога,
[160]В святые заветы небес,
Я верю, что явлено много
Безумному миру чудес.
Но высшее чудо на свете,
Великий источник утех —
Блаженно-невинные дети,
Их тихий и радостный смех.
Да, нежность души своей он прятал. Он хотел быть демоничным.
И вот начались вечера с уклоном эстето-эротическим. Писались, читались и обсуждались вещи изощренно эротические. Помню один рассказ Сологуба — не знаю, был ли он напечатан, — где старый король приводит к своей молодой жене юного пажа и смотрит на их ласки. Когда у королевы родился сын, и король, и народ ликовали.
— Это мой сын, — заявлял король. — Я принимал участие в его зарождении.
Ребенка объявили наследником, а пажа повесили на воротах города, как собаку.
Все слушатели, конечно, согласились, что этот ребенок — сын короля, а паж тут абсолютно ни при чем. Паж — собака, и кончено. Кто-то, однако, робко заметил: а вдруг ребенок вышел как две капли воды похожим на пажа?
Все замахали руками:
— Не все ли равно. Мало ли какое бывает случайное сходство.
И участники вечеров старались превзойти друг друга эстето-эротизмом. Часто выходило совсем неладно, хотя и подано было искусными стихами.
Но вот умерла тихая сестра Сологуба.[161] Он сообщил мне об этом очень милым и нежным письмом.
«…Пишу Вам об этом, потому что она очень Вас любила и велела Вам жить подольше. А мое начальство заботится, чтобы я не слишком горевал: гонит меня с квартиры…» И тут начался перелом.
Он бросил службу, женился на переводчице Анастасии Чеботаревской[162], которая перекроила его быт по-новому, по-ненужному. Была взята большая квартира, куплены золоченые стулики. На стенах большого холодного кабинета красовались почему-то Леды разных художников.[163]
— Не кабинет, а ледник, — сострил кто-то.
Тихие беседы сменились шумными сборищами с танцами, с масками.
Сологуб сбрил усы и бороду, и все стали говорить, что он похож на римлянина времен упадка. Он ходил как гость по новым комнатам, надменно сжимал бритые губы, щурил глаза, искал гаснущие сны.
Жена его, Анастасия Чеботаревская, создала вокруг него атмосферу беспокойную и напряженную. Ей все казалось, что к Сологубу относятся недостаточно почтительно, всюду чудились ей обиды, намеки, невнимание. Она пачками писала письма в редакцию, совершенно для Сологуба ненужные и даже вредные, защищая его от воображаемых нападок, ссорилась и ссорила. Сологуб поддавался ее влиянию, так как по природе был очень мнителен и обидчив. Обиду чувствовал и за других. Поэтому очень бережно обходился с молодыми начинающими поэтами, слушал их порою прескверные стихи внимательно и серьезно и строгими глазами обводил присутствовавших, чтобы никто не смел улыбаться. Но авторов слишком самонадеянных любил ставить на место.
Приехал как-то из Москвы плотный выхоленный господин, печатавшийся там в каких-то сборниках, на которые давал деньги. Был он, между прочим, присяжным поверенным. И весь вечер Сологуб называл его именно присяжным поверенным.
— Ну а теперь московский присяжный поверенный прочтет нам свои стихи.
Или:
— Вот какие стихи пишут московские присяжные поверенные.
Выходило как-то очень обидно, и всем было неловко, что хозяин дома так измывается над гостем.
Зато когда привел к нему кто-то испуганного, от подобострастия заикающегося юношу, Сологуб весь вечер называл его без всякой усмешки «молодой поэт» и очень внимательно слушал его стихи, которые тот бормотал, сбиваясь и шепелявя.