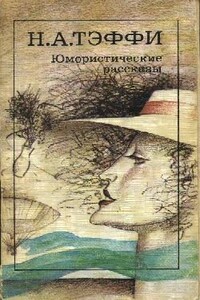Георгий Чулков и Мейерхольд
[136]
Не знаю, жив ли Георгий Чулков[137].
Воспоминание о нем осталось очень милое. Красивый, приятный, талантливый человек. Но главное, что характеризовало его, это непогасаемый восторг перед каким-нибудь талантом. Он не помня себя погружался в этот восторг, только им и бредил, только им и жил.
А. Измайлов в своих сатирических портретах написал о Чулкове[138]: «Александр Блок! Александр Блок! Александр Блок! Дайте попочке сахару».
Но ему и сахару не нужно. Ничего ему не нужно. Забывал самого себя.
Я его видала часто вместе с Мейерхольдом еще до Театра Комиссаржевской[139], где Мейерхольд наконец развернулся. До этого театра были только планы, чертежи будущего великого здания, декламация и предчувствие триумфа. Предчувствия не обманули. Ведь перед закатом Мейерхольда большевики начали строить театр его имени[140], где, если верить газетам, для каждого зрителя был обещан особый вентилятор.
Мейерхольд чертил магический треугольник. В углы треугольника помещались — автор, режиссер и актер. Каждый в своем углу. Общение — через катеты и гипотенузу. Автора и актера соединяет гипотенуза — длиннейший путь. И это не без умысла. Таким образом, автору выходило проще общаться с актером через режиссера по двум катетам. Непосредственное общение автора с актером подрывает работу режиссера, который лучше знает, что хочет выразить автор и как нужно его выражать.
Впоследствии я на горьком опыте узнала весь трагизм этой гипотенузы, отделяющей автора от актера.
Режиссер всегда считает автора врагом пьесы. Автор своими замечаниями только портит дело. Написал пьесу автор, но режиссер, конечно, лучше понимает, что именно автор хотел сказать.
Так, в одной из моих пьес выведен нежный молодой влюбленный, который говорит любимой женщине: «Солнце мое, я люблю тебя». Режиссер напялил на влюбленного страшный рыжий парик, огромный зеленый галстук с торчащими концами и загримировал идиотом.
— Почему?
— Как почему? По вашей же пьесе. Ведь он же у вас идиот.
— Да с чего вы это взяли?
— Да как же: он говорит даме «солнце мое». Ясно же, что он идиот!
Когда ставили мою большую пьесу в московском Малом театре[141], я приехала, чтобы прочесть ее актерам. Потом стала ходить на репетиции. Ставил пьесу Платон[142], серьезный режиссер — театр ведь Императорский!
Первый акт кончался у меня чтением нежного стихотворения, и занавес под это чтение должен был медленно-медленно опускаться. Было красиво, и создавалось «настроение». И каждый раз театральный плотник пускал занавес с какой-то нарочитой скоростью: трррррр-бах! Я чуть не плакала. Платон успокаивал:
— Ох уж эти авторы! Да уверяю вас, что на спектакле он сделает прекрасно.
— Так почему же он сейчас хоть бы раз не сделал как следует?
— Ох уж эти авторы!
Я ненавижу длинноты. И конечно, вырывала кусочки то у одного, то у другого актера. А актеры обожают поговорить побольше.
Платон уговорил меня уехать и вернуться через месяц к последним репетициям.
— Вот тогда увидите, как мы подадим вашу пьесу. Сейчас актеры еще не вошли в роль, ваши замечания их нервируют.
Поверила. Уехала. Через месяц приехала.
Тррррр-бум! — бахнул занавес. Главная роль у Остужева[143]. Чувствую длинноты. Поправить ничего нельзя, потому что он-глухой и учит роль назубок. Реплик он не слышит. Все актеры, увы, вошли в роль, и теперь уж ничего с ними не поделаешь.
Пьеса мне до того не понравилась, что когда приехал ко мне Незлобин[144] и попросил дать ее для Петербурга, я в ужасе крикнула:
— Ох, не надо!
Он только руками развел:
— Первый раз вижу автора, который не хочет, чтобы его пьесу играли.
Я пьесу дала, но тут уж себя отстояла. Вылезла из заклятого треугольника, сама говорила с актерами, и пьеса сошла отлично.
Но это было много позже. А в то время, о котором веду рассказ, Мейерхольд чертил свою геометрию, Чулков пламенел. Потом оба решили, что со мной им трудно, что видимая стена отделяет меня и их живая мечта от этой стены отскакивает. Они были правы.
Я помню, как писали в советских газетах о постановке Мейерхольдом «Ревизора»[145]. У него из шкапа в будуаре городничихи вереницей выходили ее «мечтаемые» любовники. Поле было свободное. Мертвый Гоголь, загнанный за гипотенузу, протестовать не мог.