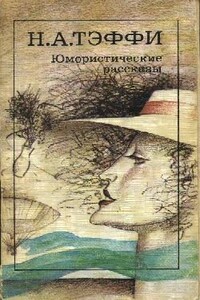— Где вы такие ноги видали? — спрашиваю у сапожника.
— Зато посмотрите, какой товар хороший! И фасончик — прямо ножка смеется!
— Да ведь эти огромные, а те не влезут. Как же быть?
— А вы купите две парочки, вот и будет ладно. Одна, значит, большая, другая маленькая, вот и выйдет середина наполовину.
Хорошо торговал севастопольский сапожник!
Город был пыльный, унылый, обтрепанный.
Побродили и вернулись на «Шилку». Знали, что уголь грузят спешно и сразу отойдут.
Пароход опустел. Но перед самым отходом принял новых, уже «казенных пассажиров»: целый отряд военной молодежи, охранявшей крымские дворцы. Доставить их надо было на кавказский антибольшевистский фронт.
Красивые, нарядные мальчики весело переговаривались, картавили по-французски, пели французские песенки. Разместились на палубе.
А в трюм серой, пыльной, войлочной волной, гремя штыками и манерками, вкатился отряд боевой обстрелянной пехоты.
Оба эти отряда не смешивались и как бы не замечали друг друга.
Наверху перекликались веселые голоса.
— Оù es-tu, mon vieux?[78]
— Коко, где Вова?
— Кто пролил мой одеколон?
Пели: «Rataplan-plan-plan…»
Снизу поднимались, погромыхивая жестяной кружкой, на камбуз за кипяточком усталые серые люди, подтягивали какие-то рваные ремешки, шлепали оборванными подметками, опустив глаза, пробирались, громыхая сапожищами, мимо лакированной молодежи.
Но бедную лакированную молодежь ждала очень горькая участь там, на фронте. Многие встретили смерть нарядно. Храбро и весело. Для многих этот «Rataplan» был последней песенкой.
Среди этой молодежи был один с поразительно красивым голосом. Он долго, до глубокой ночи пел. Говорили, что это племянник певца Смирнова…
К ночи стало слегка покачивать.
Я долго стояла одна на палубе.
Обрывки песен, веселый говор и смех доносились из салона.
Серая, войлочная, пыльная команда давно затихла в трюме. Они не веселились. Они уже слишком многое видели и узнали, чтобы смеяться. Спали крепко, «деловито», как крестьянин во время страды, которому сон нужен и важен, потому что дает силы для нового тяжкого дня.
Поскрипывала, покачивалась «Шилка». Черная волна ударяла упруго и глухо. Разбивала ритм песни, чужая этому маленькому веселому огоньку, светящемуся из окна салона в темную ночь. Своя глубокая и страшная жизнь, своя неведомая нам сила и воля. Не зная нас, не видя, не понимая — поднимет, бросит, повлечет, погубит — сти-хи-я.
Большая звезда вздулась костром, бросила на море золотую ломаную дорожку, словно маленькая луна.
— Это Сириус, — произнес около меня голос.
Мальчишка-кочегар.
Глаза, белые от замазанного сажей лица, напряженно смотрят в небо. Через открытый ворот бурой от грязи рубашки виден медный крестик на замызганном гайтанчике.
— Это Сириус.
— Вы знаете звезды? — спросила я.
Он замялся.
— Немножко. Я плаваю… я кочегар… на пароходе ведь часто приходится посматривать на небо.
— Из кочегарки?
Он оглянулся кругом.
— Ну да. Я кочегар. Не верите?
Я взглянула на него. Действительно — почему же не верить? Рука с обломанными черными ногтями, этот медный крестик…
— Нет, я верю.
Черные волны с острыми белыми рыбьими гребешками плыли у борта, хлюпали, шлепали по пароходу лениво и злобно. Погасла дорожка Сириуса, начался мелкий дождик.
Я отошла от борта.
— Надежда Александровна! — тихо окликнул меня кочегар.
Я остановилась.
— Откуда вы меня знаете?
Он снова оглянулся кругом и заговорил совсем тихо:
— Я был у вас на Бассейной. Меня представил вам мой товарищ, лицеист Севастьянов. Помните? Говорили о камнях, о желтом сапфире…
— Да… чуть-чуть вспоминаю…
— Здесь никто не знает, кто я. Даже там, в кочегарке. Я плыву уже третий раз. Третий рейс. Все мои погибли. Отец скрылся. Он мне сказал: ни на одну минуту не забывать, что я кочегар. Только тогда я смогу уцелеть и сделать благополучно то, что мне поручено. И вот плыву уже третий раз и должен опять вернуться в Одессу.
— Там уже укрепятся большевики.
— Вот тогда мне туда и нужно. Я заговорил с вами потому, что был уверен, что вы узнаете меня. Я вам верю и даже думаю, что вы нарочно притворяетесь, что не узнали меня, чтобы не встревожить. Неужели так хорош мой грим?