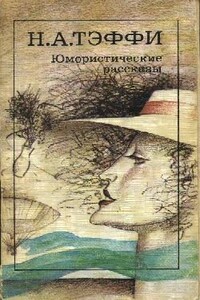— Да ведь это он совсем не то ответил, — говорили они.
— В том-то и дело, что не то. Если бы он ответил правильно, так нечего было бы и рассказывать.
— Да, но зачем же он так ответил?
— Потому что не сообразил.
— Ну так, значит, он просто глуп. Чего же тут интересного?
Зинаида Николаевна все-таки оценила несколько строк из стихотворения Дон-Аминадо[221], человека действительно очень талантливого и остроумного.
Надо восемь раз отмерить,
Чтоб зарезать наконец, —
декламировала она.
Мережковский относился к этому мрачно. Не одобрял.
В. Злобин заступался за Мережковского:
— Нет, он все-таки понимает юмор. Он даже сам как-то сказал каламбур.
За двадцать лет их близкого знакомства один каламбур. Остряк, можно сказать, довольно сдержанный.
Зинаида Николаевна относилась ко мне с любопытством. Она рассматривала меня как некую странную разновидность и часто говорила:
— Я хочу непременно написать о вас. До сих пор никто еще не писал о вас как следует.
— Поздно, — отвечала я. — Все равно вашим указаниям следовать уже не поспею, а мнение читателей обо мне тоже уже давно сложилось, его не переделаете.
Но вот как-то случилось, что попала им в руки моя книга «Ведьма»[222] и почему-то им обоим понравилась.
— Вы в ней перестукиваетесь с вечностью, — говорила Гиппиус.
— Какой язык! — хвалил Мережковский. — Упиваюсь! Упиваюсь!
И тут же прибавил:
— Вы совсем не похожи на ваши произведения. Вот Зина похожа на свои произведения, а вы нет. Эта книга прямо прелестна.
— Боже мой! — воскликнула я. — Вы хотите сказать, что я сама совсем омерзительная. Это ужасно. Но ведь ничего не поделаешь.
— Между прочим, зачем вы в ваших произведениях отводите место комизму? Я не люблю комизма, — сказал он мне как-то.
«Комизмом» он заменял слово «юмор». Вероятно, из презрения.
Тогда я указала ему на отношение Гоголя к юмору.
— Вот послушайте: «Смех значительнее и глубже, чем думают. На дне его заключен вечно бьющий родник,[223] который углубляет предмет. Насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на свете. И есть люди, которые не слышат могучей силы смеха. Многие говорят, что смешно — то низко, только тому дают название высокого, что произносится суровым, напряженным голосом».
Мережковский страшно обиделся.
— У меня вовсе не напряженный голос.
— Ну конечно. Всем известно, что у вас модуляции. Это не о вас и писано.
3. Гиппиус часто цитировала свои стихи. Последних ее стихов Мережковский не любил.
— Зина, это не стихи.
— Нет, стихи, — упорствовала она.
— Нет, не стихи, — кричал он.
— Я помирю вас, — вступилась я. — Это, конечно, стихи. Все внешние элементы есть. Есть размер, есть рифма. Это стихи, но не поэзия, прозаические рассуждения в стихотворной форме.
Оба согласились. Я после чтения «Ведьмы» перестала быть «она». Стала «Тэффи».
Как-то я заболела. Пролежала около месяца. Мережковские часто навещали меня, и раз, к всеобщему удивлению, Дмитрий Сергеевич принес фунтик вишен. Купил по дороге. Все переглянулись, и на лицах изобразилось одинаковое: «Вот, а еще раскричали, что “сухарь”».
Мережковский грозно потребовал тарелку и велел сполоснуть вишни.
— Дмитрий Сергеевич, — залебезила я. — Вы не беспокойтесь. Я не боюсь. Сейчас холеры нет.
— Да, — отвечал он мрачно. — Но я боюсь.
Сел в угол и, звонко отплевывая косточки, съел все вишни до последней. Это вышло так забавно, что присутствовавшие боялись взглянуть друг на друга, чтобы не расхохотаться.
Я долго и внимательно приглядывалась к этому странному человеку. Все чего-то искала в нем и не находила. Вспомнила «Сакья Муни». Сам Будда преклонил до земли свою венчанную голову перед страданием нищего вора, сказавшего ему: «Повелитель мира, ты не прав». Ведь были же такие мысли у Мережковского!
И вот как-то, уже незадолго до его смерти, когда они вернулись в Париж, разочарованные в немецких покровителях, без денег — пришлось продать даже золотое стило, поднесенное в дни Муссолини итальянскими писателями, — сидели мы втроем, и 3. Гиппиус сказала про кого-то: «Да, его очень любят».
— Вздор! — оборвал Мережковский. — Сущий вздор! Никто никого не любит. Никто никого.