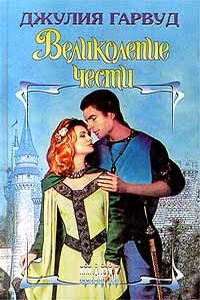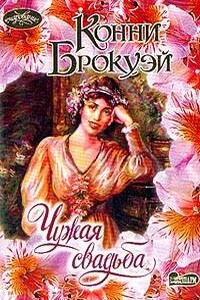Вы пишете, что Карл Дерман погиб, не имея ни дома, ни родины, ни близких, но я-то знаю, что это не правда. Вы были рядом с ним, Эйвери. Карлу Дерману пришлось вынести в жизни много утрат: его дом был сожжен, семья убита, страна разорена. Однако в вашем обществе он сумел найти не только замену всем этим вещам, но и выход из одиночества. Разве вы сами не называли его братом? И кто может лучше нас с вами понять, как тесно это слово связано со словом «дом» ?
В своем письме вы упомянули о том, что Карл не раз выражал желание жениться на мне. Так вот, я не желаю лишаться сразу поклонника и соперника. У меня и без того слишком мало знакомств, чтобы пренебрегать хотя бы одним из них, тем более если учесть, каких больших умственных затрат требует наша с вами переписка.
Поэтому позвольте мне взять на себя роль его вдовы и сказать вам то, в чем охотно заверила бы вас на моем месте любая любящая жена. Карл погиб в результате несчастного случая, который никто не в силах был предотвратить. Он умер в расцвете лет, живя той жизнью, которую сам для себя выбрал, а не убегая от нее, и оставил после себя друзей, которые оплакали его кончину. Дай Бог, чтобы обо всех нас после смерти можно было сказать то же самое.
Итак, мой дражайший враг, я сделала нечто большее, чем просто улыбнулась. Я почтила его память своими слезами. Полагаю, вам сейчас самая пора утереть ваши.
Искренне ваша, Лилиан Бид.
То самое письмо, о котором упоминал Джон Нейл. Те злополучные, чудесные, непостижимые письма… Почему, о Господи, почему они не могли и дальше продолжать в том же духе?
Лили положила письмо на стол и зарыдала.
Они вернулись вчера вечером.
Лилиан Бид.
Эйвери сложил записку. Под словом «они», без сомнения, подразумевались Эвелин, Бернард и мисс Мейкпис. Одной короткой фразой Лили выполнила свое обещание. Пожалуй, от женщины, которая даже из новой ливреи для кучера извлекала тему для объемистого письма, можно было ожидать большего — какого-нибудь намека или предостережения… Боже правый, подумал Эйвери, скомкав записку, еще совсем недавно они делили ложе, так неужели ей нечего было сказать ему в этой записке, кроме каких-то четырех слов?
Он швырнул листок на узкую кушетку, которую снимал за шесть шиллингов в сутки в трактире «Собака и заяц». Ему не хватало Милл-Хауса — вернее, того, что Лили сделала из Милл-Хауса: его спокойной, непринужденной атмосферы, полной домашнего тепла и уюта.
И еще ему не хватало Лили. Той самой незаурядной, поразительно прекрасной женщины, которая не оставила камня на камне от его предубеждений и сумела завоевать его полное и безоговорочное уважение. Его привлекало в ней все — ее острый язык, ее чисто хозяйская скупость в делах, ее нелепая кампания по спасению скаковых лошадей и даже то искреннее смущение, которое вызывала в ней юношеская влюбленность Бернарда. Он уже не представлял себе, как сможет жить без нее дальше.
В любом случае ему казалось немыслимым жить в Милл-Хаусе без Лили. Этот дом принадлежал ей. Все в нем, от дешевой копии севрской вазы и до удобной гостиной на первом этаже, носило на себе отпечаток ее индивидуальности. Даже эти проклятые портреты в до смешного претенциозной фамильной галерее почему-то связывались в его сознании с нею. Милл-Хаус мог оставаться его домом лишь до тех пор, пока Лили была в нем хозяйкой.
Эйвери нагнулся и, достав из-под примятого матраса потрепанный саквояж, вынул оттуда туго перевязанный сверток. По крайней мере он еще мог найти достойный выход из того переплета, в который угодил не по своей вине.
Затем он сорвал с вешалки пиджак и покинул трактир, кивнув мимоходом раскрасневшейся служанке, которая мыла выбеленные известью ступеньки. Путь его лежал в Милл-Xayc.
— Вот, возьми. Этого вполне достаточно, чтобы восстановить конюшню и снова сделать поместье доходным. — С этими словами Эйвери швырнул на стол толстую пачку купюр.
Вид у Лили был холодным и неприступным. Похоже, она уже успела взять себя в руки. Ее безупречно чистые штаны и накрахмаленная рубашка были жесткими, словно одежда китайского мандарина. Она посмотрела на сверток: