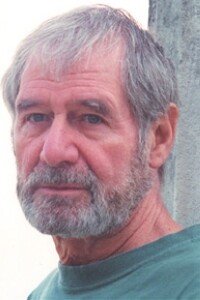Настоящий басист играет соло так, что пиано слышат только музыканты, сидящие рядом. Зал волнуется. Дилетанты в растерянности: почему замолчал оркестр? Над эстрадой молчание, но оно кажущееся. Басист играет пиано. Струны контрабаса прорывают тишину, и опять пустота звука… Иногда я сомневаться начинаю, слышит ли он сам, как играет. Но тут же ловлю себя на том, что слышу, как будто играю вместе с ним, или сам играю — вот она, угаданная музыка в гуде струн. И пианино, и ударник поддерживают меня. И вот уже весь оркестр. И все мы вместе играем, творим джаз, кто в зале, а кто на сцене. На моей руке теплая ладонь старика, и мы чувствуем друг друга сквозь растущую волну возбуждения. И вот весь зал — словно прорвало — свистит, грохочем ногами. И лишь посеревшая кожа на темном лбу басиста и капли пота на переносице указывают подлинную цену происшедшего…
* * *
Убаюкало девочку синее пианино[1]. Теплая щека на моем плече. Я не ведаю, что снится ей: дом или проходимец ласковый, которого она любит. Умная девочка — не наделает глупостей. Чтобы разобраться, не потребуется ей (да и читателю) особой интуиции. Чего же проще: папа — не приведи Господи, и сын — яблоко от яблони. Один на трубе играет, другой зубы заговаривает повествованием в стиле блюз. Сразу не разберешь, где ирония, а где пижонство. Некоторые строчки из души — трогают.
Давно я поселился в другом районе, звонят мне другие люди. Я и к телефону часто не подхожу, если занят. Дернется иногда надежда, вздрогнет, но опыт здравого смысла ее прижмет: и номер давно сменил, и узнать ей не у кого. И я опять сажусь. Устраиваюсь поудобнее. Не надеюсь — пишу.
…Прошу извинить за смешение времен. И прошедшее, и настоящее — они в прошлом. Но иногда я не могу констатировать равнодушно: он сказал, она сказала. Потому что слова вдруг начинают звучать. Она говорит и улыбается, поворачивается, идет. Она берет в ладони мою голову, опять, уже в который раз она делает это, как только я начинаю вспоминать. И мешаются времена и даты, наши ночи и вечера. И слова.
Я мог бы написать и в будущем времени: она подойдет, она скажет, я скажу — потому что это не кончается. То, что человеком прожито, — всегда с ним.
И лошади из варшавского сна, гнедые и белые, однажды они уже бежали, но не под дождем, а под снегом, — стук подков по брусчатке. Движение их я выражу глаголами прошедшего времени, глаголами несовершенного вида: я стоял, она смеялась, падал мокрый снег на деревья у Инженерного замка, таял, — белая шапка пружинила на волосах. Ивлев молчал. Но перед этим, трое, мы долго шли по Фонтанке и наблюдали, как разгружаются машины через парапет и снег тонет в черной воде.
— Что будет, если моя сумка упадет в воду? — спросила Маша.
— Прыгну, — пробормотал я.
— Вода холодная, — сказал благоразумный Ивлев. Вода была холодная. Но Маша не поверила ни тому, ни другому. А сумка так и не упала.
* * *
Бог с ней, с сумкой.
Сумка, это еще куда ни шло, — сумку простит серьезный читатель. А вот где мы нынче находимся? Гуляем по зимним каналам или все еще на концерте Теда Джонса? А может, у автора затекла рука? И он хочет повернуться, чтобы нечаянно не разбудить…
Тише. Тише. Нельзя же так. Нехорошо говорить о спящем. Тем более глядя на него. На нее. На спящую.
Я и сам не отдаю себе отчета: зачем, для чего в своих писаниях сюда забрел. Был звонок и бег под дождем, и побег с любимой работы. Но разве это все? Так много было, столько разного накопилось в атмосфере этой комнаты, что и не верится, как поместиться могло. В гуще воспоминаний растворяется наше сегодня, как золото в царской водке, — не может быть чистого сегодня, без примеси вчера.
Спит красивая. Я люблю прислушиваться к ее дыханию, когда, утомленная и довольная, она засыпает. Нет ни ее, ни меня. Необратимы изменения в качестве. Управлению внутренних дел давно пора выдать нам другие паспорта. Имя, отчество, фамилия в старых документах не соответствуют личности владельца.
Просыпаясь среди ночи, я вспоминаю начало, первый поцелуй, первый рассказ. Не анализирую. Вспоминаю: слышу музыку, блюз.