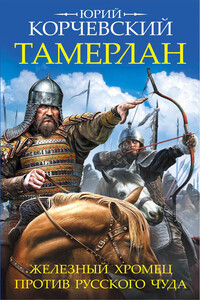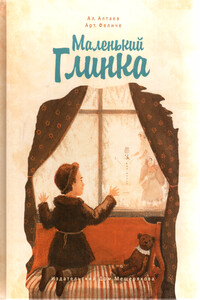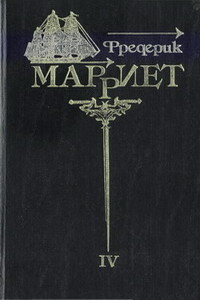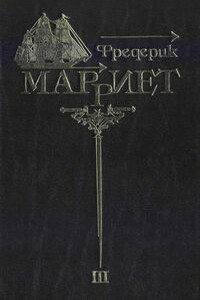Перед отъездом Оранскому без всяких помех удалось устроить Генриха. Юношу зачислили в штат королевских пажей и приказали переехать в общее для них помещение во дворце герцогов Брабантских. В самую последнюю минуту Генриху стало тяжело расставаться с дядей и Микэлем. Старый рыцарь напрасно пытался скрыть волнение. Когда он благословлял племянника на новую жизнь, голос выдал его. Микэль плакал и молил взять его с собою, хотя бы на время. Однако строгие дворцовые правила не допускали, чтобы пажи имели собственную прислугу. Генриху пришлось отказать ему. Обоим старикам давно пора было возвращаться домой, в Гронинген. Прошло уже больше двух лет со времени отъезда их оттуда. Но они решили подождать в Брюсселе, пока мальчик привыкнет к придворным порядкам.
Для Генриха сразу же потянулись однообразные дежурства возле королевских апартаментов: бессонные ночные часы, серые и тусклые — дневные, без всяких событий, без возможности увидеть короля наедине. А это было ему так необходимо, чтобы выполнить задуманное — рассказать Филиппу о бесчинствах солдат! Мир заключат не сразу, а до тех пор беззащитные люди будут вынуждены по-прежнему терпеть грабежи и насилия.
Другие пажи были знатные юноши, приехавшие с королем из Испании. Они казались ему холодными и чваными. Какое им дело до обид нидерландского народа!..
Да и за стенами дворца, казалось, ничего не происходило. Напугавший их с Микэлем приказ на дверях ратуши как будто ничего не изменил в обычной жизни города. Запертый среди дворцовых покоев, Генрих смотрел иногда из окон и ничего не замечал. По двору проходила, сменяясь в определенные часы, стража. Только жители как будто сторонились этой части Брюсселя. Да и вообще на улицах стало менее людно. Из ближних мастерских почти не раздавалось, как обычно, веселых песен.
Во дворце тоже было тихо. Только на лестницах, переходах и галереях круглые сутки виднелись алебарды, кирасы, шлемы, шпаги… Мелькали десятки дежурных офицеров, десятки пажей. Приглушенно звучала команда, звон оружия. За длинной анфиладой залов, в самом отдаленном крыле здания, всегда запертая дверь скрывала от людей человека в неизменном черном камзоле, с бледным неподвижным лицом и бесцветными глазами навыкате. Он сидел за деловыми бумагами, рассылая повеления, эдикты, послания… Скупой на слова, он был щедр на пространные письма. В них витиеватость слога помогала спрятать истинный смысл и давала возможность отречься от любого обещания. Жизнь короля в Брюсселе, как и в Испании, проходила по одному, раз установленному порядку: короткий отдых ночью, с молитвой до и после сна, а потом — долгие часы за письменным столом.
Но в другом крыле дворца имелись покои, совсем не схожие с апартаментами короля. Там, около монарха, находился его первый советник и министр — епископ Аррасский, бургундец Антуан Перрено. Кабинет его преосвященства тонул в коврах. Тканые фландрские обои его комнат отличались изысканным подбором рисунка и красок. А ливреям бесчисленной прислуги завидовала челядь нидерландской знати.
За широким венецианским окном загорались звезды. Брюссель кутался в вечерние сумерки.
Епископ диктовал секретарям на разных языках. Знание семи языков и способность быстро переходить с одного на другой были гордостью высокообразованного прелата[5].
Безукоризненная латынь адресовалась его святейшеству папе в Рим. Каждая строка послания дышала рвением во славу католической церкви. Письмо к испанскому послу в Ватикан диктовалось по-испански. В скрытых, непонятных для секретарей выражениях Антуан Перрено давал понять, что вопрос об обещанной булле против нидерландских еретиков является ныне самым важным.
Епископ вынул из кожаной папки с золотым итальянским тиснением бумагу — письмо от герцога Савойского, правителя Нидерландов до приезда короля, и пробежал его глазами:
«Его величество не доплатил германским наемникам миллиона крон… Если министры не откроют какого-нибудь средства добыть денег, в чем сомневаюсь, его величество будет в таком затруднительном положении, в каком не бывал еще ни один государь…».