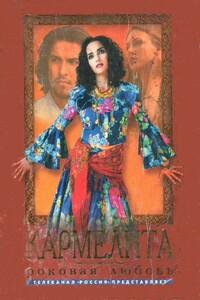Кюрелен вернулся к сестре. Она держала у груди младенца, тот, громко сопя, сосал обнаженную грудь матери, лицо которой было холодно. Она отвернулась от младенца, небрежно держа его в руках. Когда Оэлун увидела вошедшего брата, ее лицо осветилось любовью, и она улыбнулась. Кюрелен погладил сестру по плечу, склонившись на младенцем, ущипнул его за пухлую розовую щечку. Ребенок взмахнул ручкой, словно отгоняя помеху, но от груди не оторвался.
— Отличный мальчик, — заявил Кюрелен. — Как ты считаешь, он не похож на меня?
Оэлун рассмеялась, но внимательно взглянула на сына, а потом на лице у нее появилось выражение гордости:
— Мне так не кажется. У тебя милое лицо, а у него…
Они вместе посмеялись, Оэлун дотронулась до макушки младенца.
— Взгляни на его волосы. Они яркие, как золотисто-красный вечерний закат! А глаза — серые, как пески пустыни.
Помолчав мгновение, она робко поинтересовалась, волнение, звучавшее в ее голосе, не могло скрыть гордых ноток:
— Правда он будет великим человеком?
— Я в этом не сомневаюсь, — спокойно ответил брат.
Она с подозрением взглянула в глаза брата, он ответил ей уверенным взглядом. Оэлун крепко прижала младенца к груди и решительно воскликнула:
— Ты должен научить его всему, что знаешь, ты научишь моего сына читать, и еще, брат, ты покажешь ему чужие земли. Он обязательно станет великим человеком, потому что он мой сын, а для меня он важнее всего на свете!
Кюрелен о чем-то задумался, а потом ухватил младенца за ушко и с трудом оторвал его от материнской груди. От обиды малыш громко заорал и стал размахивать крохотными кулачками. Кюрелен, кажется, был доволен увиденным, он захохотал от удовольствия и приложил малыша к полной материнской груди. Малыш обиженно посопел, а потом с новой силой принялся за важное дело.
— Ты сказала, что он — твоя жизнь, — заговорил Кюрелен каким-то незнакомым голосом, — но он также принадлежит твоему мужу и своему отцу. Оэлун, не приучай сына ненавидеть отца. Ненависть к отцу разрушает душу. Мне это прекрасно известно.
Кюрелен повернулся и покинул юрту. Оэлун, нахмурясь, посмотрела ему вслед, а потом крепче прижала к себе младенца.
— Он — моя жизнь, — повторила Оэлун и нахмурилась.
Есугей устроил пиршество, чтобы отпраздновать крупную победу и рождение сына. Пиршество удалось. Его воины радовались и пировали вместе с ним. Жизнь этих людей была очень трудной и жестокой. Они обитали в великих заснеженных пустынях, на просторных равнинах и красных сверкающих горах. Пустыни были сухими и бесцветными, как сердце старика. Ветер и молнии, пыль и град, гром и пустота, лед и бури постоянно угрожали их жизням. У них не было постоянного дома. Кочевники переходили с места на место, чтобы попытаться скрыться от страшных снежных заносов холодной зимы, а летом избежать засухи и песчаных бурь, переждать жуткую жару, не попасть в пустынную бурю. Голод был той угрозой, которая оказывалась вместе с ними у костра каждый раз, когда они садились есть, и неважно то, насколько обильной в данный момент была их трапеза. Они не могли чувствовать себя в безопасности, подобно тем, кто жил в городах. Часто они добирались до Великой Китайской стены, защищающей народы Поднебесной от варваров. Но только немногие из них, за исключением торговцев, могли миновать суровую охрану. Участь кочевников заключалась в том, чтобы, расположившись у стены, с завистью смотреть на толстых людей, которые сновали мимо стражи, выполняя, видимо, какие-то важные дела. Если пастбища высыхали, погибал скот, кочевники, тощие и голодные, ненавидели удачливых горожан, но когда пастбища были зелены, а грабежи приносили хорошую добычу, они с презрением поглядывали на изнеженных обитателей городов и громко воспевали свою свободу и дикие степи. Освещаемые бледными лучами солнца степи, игра сполохов на зимнем небе радовали кочевников, а горожанам не суждено было насладиться этим зрелищем.
Люди, жизнь которых трудна и опасна, умеют веселиться от души. Каждая свадьба, рождение ребенка или чья-то смерть превращались в дикий разгул. Забивались самые жирные жеребята и овцы, наполнялись чаши кумысом и саке, люди танцевали, кричали, хлопали в ладоши и хохотали не переставая. Смех кочевников, освободившихся на время от трудностей жизни, постоянного страха, опасностей и вражды, кому-то напоминал рев страшных хищников. Горожане, ожиревшие, изнывающие от скуки и безделья, не умели так смеяться, потому что легкая жизнь не может родить сильный смех, идущий из души. Кюрелен говорил, что смех горожан от ума и был таким же кислым, как вода в пустыне, и таким же колючим, как степные кусты с шипами. Радость, идущая от ума, всегда бывает насмешливой и жгучей и обычно проистекает от презрения к грехам человечества. Люди в городе могли упиваться своей ненавистью к остальным, и веселье их не было заразительным. Боль и страдание, неопределенность положения и лишения, трудности и борьба были топливом для огромных пиршественных костров, заставляли плясать саму землю и восхищаться увиденным зрелищем. Такого никогда не бывало у мирно живущих и процветающих людей.