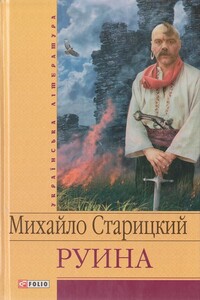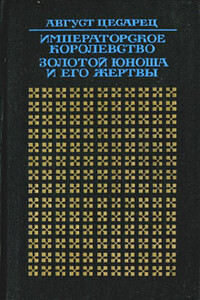— Нет, знаешь что, — остановил ее весело дед, — тащи-ка сюда казанок, да всяких кореньев… Картофельки, укропу, «цыбулю» и перцу, побольше перцу… так мы сами здесь приготовим по-запорожски. Ей-Богу!.. Да захвати еще оковытой!
— А что ж, это очень весело, — одобрил Мазепа, — только чтобы и сестра помогала.
— Я зараз, зараз, — заторопилась девчина.
— Хе, Галинка, — покачал головой дед, — «без Грыця вода не освятыться». Ну, а «челядныкы» как? — обратился он к внучке, пустившейся было к хутору.
— Да вон вертаются… Им уже все приготовлено, — крикнула на бегу Галина.
Между тем туча медленно поднималась, охватывая половину горизонта, и ускоряла приближение вечера. Вскоре возвратилась с провизией, казанком и прочими припасами Галина, в сопровождении бабы, и заявила, между прочим, что на хутор приехали какие-то казаки.
— Казаки? Кто бы это? — засуетился Сыч, — нужно пойти.
— Да стойте, диду, — остановил его Мазепа, — кажись, они сюда идут.
Все обернулись: действительно к ним подходили два каких-то значных казака.
Впереди шел средних лет казак, статный, стройный, мускулистый; бронзового цвета худое скуластое лицо его нельзя было назвать красивым, но оно, несмотря на строгие, резкие черты, на тонкий с небольшой горбинкой нос, на энергически сжатые, прямые черные брови и на суровое очертание рта, прикрытого роскошными длинными усами, не отталкивало, а привлекало к себе сразу всякого и главным образом своими открытыми, карими, ласковыми глазами, смягчавшими суровость и строгость общего выражения. За ним, почти рядом, следовал выхоленный казак несколько помоложе, составлявший и ростом, и фигурой, и светлой, подстриженной грибком шевелюрой, и более белым лицом совершенную противоположность первому: несмотря на мягкие, несколько расплывшиеся черты его лица, несмотря на смиренно кроткое выражение небольших серых, узко прорезанных глаз, в выражении их и особенно тонких губ таилось что-то неискреннее, вселявшее недоверие.
Прибывшие гости отличались от простых казаков или запорожцев и дорогим оружием, и более изысканной одеждой: они были широко опоясаны турецкими шалями, с накинутыми нараспашку «едвабнымы» кунтушами.
Приблизившись к шедшему навстречу Сычу, чернявый ласково ему улыбнулся, как старому знакомому.
— Здоров був, Сыче! — протянул он ему приветливо руки. — Не ждал, верно, а!
— Кто это? — оторопел Сыч, раскрыв широко глаза. — Да не может быть, батько наш, кошевой? Пан Иван?
— Да он же, он самый Иван, да еще и Сирко, — обнял гость обрадованного несказанно деда. — Только ты скорей — батько наш сывый. и нам уже подобает сынами твоими быть, так-то.
— Ой, радость какая, орле наш сизый! — целовал своего бывшего товарища Сыч. — Такой чести и не думал дождаться… возвеселися, душе моя, о Господе! Да какой же ты бравый, завзятый, не даром от одного твоего посвисту дрожат бусурмане. Хе, задал ты им чосу! Татарва, ведь, и детей пугает тобою, — говорил торопливо дед, осматривая со всех сторон славного на всю Украину лыцаря, предводителя Запорожской Сечи, словно не доверяя своему счастью принимать у себя такого почетного гостя.
— Да что ты, батьку любый, меня все оглядаешь, словно невесту на смотринах, — засмеялся наконец Сирко, — вот привитай лучше моего товарища, наказного полковника Черниговского, Самойловича.
— Самойловича? — изумился Сыч. — Слыхал, слыхал, давно только… Недалеко от Золотарева был в Цыбулеве батюшка Самойлович, приезжал часто к нашему, а потом перевели его на левый берег в Красный Колядник, недалеко от Конотопа.
— Этот батюшка и был моим отцом, — отозвался с нежной улыбкой полковник.
— Господи! Да ведь, коли так, так и пана полковника помню, — обнял он горячо представленного ему кошевым полковника, — маленького, вот такого, — показал он рукой, — Ивашка… Качал не раз на руках, на звоницу носил с покойной моей Оксаной, рядом бывало посажу на руки… Эх, уплыло все!
— Так мне вдвойне радостно, — заявил, прижмурив глаза, Самойлович, — посетить и славного сичовика, и знавшего отца моего и меня в детстве.
— А вот, прошу «пизнатыся», панове, — указал Сыч на стоявшего несколько в стороне своего гостя, — чудом спасенный нами Мазепа. Ляхи из мести привязали было к дикому коню, бездыханного принес «огырь» и сам упал вон там трупом. Прошу любить и жаловать.