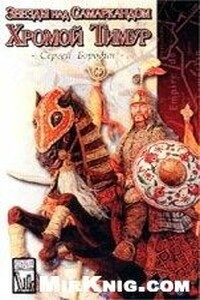- Я пошлю к ним. И к Фараджу пошлю послов.
Али-паша:
- Фараджу нужно время на сборы. А есть оно?
Султан Баязет:
- Успеем! Пишите ему письмо.
И сказал Али-паше:
- А в помощь Кейсарии... Нет, я сам пойду в Кейсарию. Только войско из-под Константинополя снимать не надо. Константинополь мы возьмем, куда бы ни сунулся этот грязный табунщик. Если его имя означает - железо, то меня прозвали Молниеносным, а вы знаете, что молния легко расплавляет железо!
Великий визирь улыбнулся. Али-паша покивал головой. Сыновья внимали и запоминали.
- Зачем он сюда явился? Вон, освобождал бы своих сородичей из-под ига китайцев. Шел бы туда. Он давно туда нацелился. А наше дело - завоевывать Европу, неверных обращать в ислам.
Али-паша оживился:
- Золотые слова. У него свое дело. У вас - свое. Так было угодно аллаху, разделившему вселенную между вами.
- Так! - облегченно и весело воскликнул султан. - Соберемся, и пойдем, и наподдадим его от Кейсарии!
Визири ушли.
Мустафу-бея султан задержал.
- Смелы ли они?
- Как дикие звери.
- Но тебя отпустил! Это благородно.
- Так и звери делают: матку сожрут, а дитя оставляют, чтоб мясо нагуляло.
- Ждет, чтоб ты снова перед ним явился?
- А хоть сейчас!
- Пойдешь с нами?
- А как же!
Баязет, отпуская его, не глядя вниз, нашаривал туфли длинными ступнями. Видя, что отец не достает их, сын подвинул ему туфли, а Мустафа-бей достал из-за пояса пайцзу и на ладони протянул Баязету:
- Вот, он дал мне. Отпускная.
Баязет оглядел серебряную дощечку и улыбнулся:
- Под монгольскую подделана. Как у Хулагу-хана чеканена. Табунщик ведь кичится, что восстанавливает государство Чингисхана, в тех пределах. Записался к нему в потомки! Вот и шел бы на Китай, как Чингисхан. Но боится. Нас боится. Мы, думает, все его победы себе назад заберем. Вот и топчется тут. Чингизид! Ха, ха!
- Возьми ее, султан, на память о моем позоре.
- Спасибо. Беру как память о твоей доблести.
Перегнувшись через перильца, он крикнул Али Шейху Бухари:
- Вы тут без меня сумеете ее достроить?
Бухари отозвался:
- Трудно нам, отец. Но постараемся. Вон везут плиты!
Оставшись с сыновьями, Баязет спросил Сулеймана:
- Болит?
- Уже заживает.
- Терпи. Чем просторнее рана, тем быстрей заживает. Царапина дольше саднит. По себе знаю.
- Заживет до Кейсарии.
- Заживет? Мы медлить не будем.
- Заживет!
Заметив, что Иса хочет спросить, но медлит, Баязет улыбнулся:
- Пойдешь и ты.
- Вот это я и хотел...
- Пойдешь.
Султан неодобрительно повертел почетную серебряную пайцзу Тимура, прочитал на ней его имя.
Он пошел в глубину комнат, то затемненных от осеннего солнца, душных, полных своих запахов, то светлых, где через распахнутые окна, развевая занавески, гулял ветер из сада и пахло плодами.
Тонкий большой нос Баязета чутко улавливал все разнообразие запахов, наполняющих вселенную, от тяжких, животных до нежнейшего дуновения женских волос, листьев и раковин.
Султан не знал, что не всем дано такое острое, чуткое обоняние, но радовался этому богатству, как не скрывал радости от хороших песен, от разнообразия оттенков листвы на деревьях и столь же радостного различия в оттенках мастей, когда лошади идут табуном, голубые, бледно-зеленые, розоватые, багряные, синие. Баязет любил свою вселенную, где аллах дал ему столь много места и не мешает то место расширять.
Он зашел в комнату, где на полках от пола до потолка хранились книги. Многие были неповторимы, приняты еще султаном Мурадом из рук поэтов и ученых, заказанные изысканным переписчикам, привезенные из многих стран, изложенные на многих языках.
Сюда приходили ученые, если он верил их знаниям и разрешал здесь читать. Выносить отсюда книги запрещалось: книга, как птица, вырвавшись наружу, не любит возвращаться.
Здесь кропотливыми, опытными, бережливыми стариками хранились летописи, письма и архивы былых султанов и мудрецов, редкостные рисунки многих художников мира.
В этой комнате у окна стояла почерневшая тахта, привезенная из Каира в подарок от мамлюкского султана Баркука, украшенная золотыми ветками и узорами из жемчужин. На ней Баязет любил сидеть, читая книги или слушая чтецов. Сам он не умел читать стихи: во всех искал смысл, а было много стихов, которые красивы лишь потому, что бессмысленны, но звучны.