– Как вы относитесь к развернувшемуся у нас движению за канонизацию царя?
– Вы знаете, три поколения нашей семьи были либералы. Письма от потомков наших крестьян, которые относились по-доброму к хозяевам, подтверждают это. А жили мы верой в царя и Отечество. Но поскольку у нас отобрали царя и Отечество, у меня, как и у моего брата Димитрия Шаховского, осталась только вера. И мы не обеднели. Но канонизировать? Не знаю, как бы отнесся к этому мой брат. Я не богослов, но мне кажется, что вы торопитесь. Не знаю, что-то здесь не то… Мой брат говорил, что нельзя политику примешивать к церкви потому, что она стоит так же высоко над политикой, как небо над деревом. Вера очень сильна! Тому, кто верит, легко жить. Вера укрепляет.
– Любопытно, кого вы считаете самым крупным политическим деятелем советской России, начиная с семнадцатого года?
– Думаю, что это Горбачев… По-доброму вспоминаю Хрущева, с которым нередко общалась в Москве. Хрущев мне импонировал: при всей его глупости и ужасах, которые он творил на Украине, миллионы людей он выпустил из лагерей. Не будь Хрущева, не было бы Солженицына. Меня всегда шокировало, что Хрущева ругает ваша интеллигенция за плохие манеры, за грубость. Я подумала: это неблагодарно. Я защищаю Хрущева перед оппонентами, он был единственным живым человеком в Кремле, не мумией. Только Никиту Сергеевича я могла с присущей мне бойкостью языка расшевелить и рассмешить. Могла я его и рассердить, но он не обижался. Я пишу книгу, где расскажу и о Хрущеве. Да, Хрущев допустил много ошибок, но эти ошибки как бы усугублял Запад тем, что всегда поддерживал бунты. Мы с мужем были в Москве, когда возникли венгерские события, мы думали, что Запад вот-вот введет свои танки или, наоборот, уговорит Хрущева не вводить советские. Мой муж-дипломат считал, что многое в мире зависит от перемен в Советском Союзе, потому что это самая сильная страна, она не допустит изменений в Европе, пока не будут перемены внутри нее.
Я считаю, что при Хрущеве взошли ростки перестройки; немного терпения, и перестройка пришла бы к вам раньше. А Хрущева сбросили потому, что он стал ошибаться. Потом пришел Брежнев, и все остановилось. Вообще признаюсь, когда началась перестройка, я так боялась, что у вас снова все друг друга перережут. Я очень люблю Испанию, и после смерти Франко тоже очень боялась, что там прольется кровь. И так была рада, что и в том и в другом случае все произошло достойно. Подумать только – 70 лет никакого парламентского правления, люди не знали правды и только ругались.
– С Франко вы не встречались?
– Нет, у меня с ним не было никаких отношений. Как многие, участвовавшие в Сопротивлении, я очень благодарна Франко, потому что если бы он пропустил после того, как Франция пала, германские войска через Испанию и Гибралтар, то Америка не была бы в войне. Погибла бы и Англия, погибла бы вся Европа.
Гитлер кому-то сказал, что он ночами разговаривал с Франко, и тот твердил, что не надо жить прописными истинами, что истины надо проверять. Вот и я, «проверяя истины», как журналистка 1 ноября 42-го года нелегально перешла границу Испании по дороге в Гибралтар. Из нищей страны Франко сделал богатую Испанию, при этом еще и воспитал короля преемником. Большой был человек. А о кладбище, где лежат вместе кости всех героев, белых и красных, вы знаете? Эта общая усыпальница впечатляет. Если бы так везде – на земле был бы мир. Я – за Франко. Хочу, чтобы ему воздали должное.
Вы, кстати, знаете, что я, наверное, единственная из журналистов была против Нюрнбергского процесса?
– В каком смысле «против»?
– Да, из тысячи я была одна против. Конечно, я обычная бельгийская журналистка, величина небольшая. Но я показала, что надо быть честным, чего бы это ни стоило. Почему же я была против? Во-первых, закон не имеет права ретроактивной силы, то есть не может приниматься после событий; положим, совершается преступление, а потом, чтобы осудить преступника, принимается закон. Однажды к этому прибег генерал де Голль, и я перестала его уважать. Во-вторых, на Нюрнбергском процессе победители судили побежденных. Но это же невозможно! Судить побежденных должны или нейтральные государства, или, что проще, сами немцы, которые, видя разорение своей страны, и решали бы судьбы виновных в катастрофе, убийствах безвинных людей, во всех преступлениях.







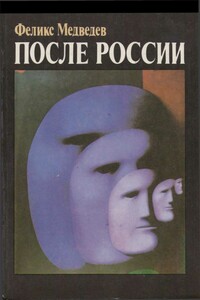
![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)

