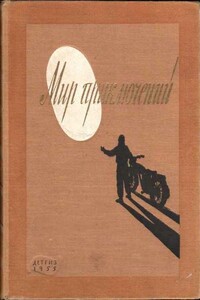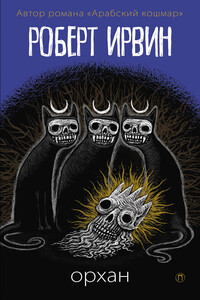Мы вышли следом за ним — Эльазар, Иоханан, Ионатан и я. Я нежно обнял Иегуду за плечи.
— Успокойся, Иегуда! Все будет в порядке.
— Не могу я с этим справиться, Шимъон! Ты видел, что со мной было. Не могу я с этим справиться…
— Кто же тогда может? Кто?
— Ты.
Я покачал головой.
— Нет, нет, во всем Израиле есть лишь один человек, за которым они сейчас пойдут в огонь и воду, как пошли бы за адоном, да почиет он в мире! Кому это знать лучше, чем мне, Иегуда? Ибо разве не правда, что всю жизнь свою я ненавидел в тебе то, чего недостает мне?
— Что же, Шимъон? Что?
Я ответил:
— Ту силу, которая заставляет людей любить тебя больше жизни.
— И все же, — сказал Иегуда задумчиво, и в голосе его звучала безнадежность, — то, что хотел я, досталось тебе.
Братья приблизились к нам. Мы сели под деревом, и я сказал Иегуде:
— Нас пятеро, мы сыновья Мататьягу и братья. Ты был прав, Иегуда: если даже остальные все уйдут и покроют себя позором, мы будем делать то, что пристало делать человеку. Не знаю уж, благословение ли это или проклятие адона, но это — в нас, во всех нас, какие бы мы ни были разные. Но они не уйдут, Иегуда, они не уйдут. Мы сами вышли из их среды, как говорил адон, и это они сделали нас такими, какие мы есть. Да иначе и быть не может. Дано ли было египтянам или грекам — родить Маккавея?
Эльазар остановил меня, ибо увидел, что к нам подходит рабби Рагеш.
— Хватит, Шимъон, — сказал Иегуда, и лицо его исказило страдание.
Рагеш обратился к Иегуде со словами укора:
— Так-то ты почитаешь старость в Израиле! И тебя-то я назвал Маккавеем!
— Я что, просил я тебя об этом, что ли? — жалобно сказал Иегуда. — Просил я тебя об этом?
— Проси, когда ты этого заслужишь. А теперь ступай назад, они все еще ждут тебя.
Мы встали и все вместе вернулись в шатер.
— Я прошу у вас прощения, — сказал Иегуда старикам.
И они ответили:
— Аминь! Да будет так!
И тогда Иегуда начал говорить, и все слушали его. Они сидели, скрестив ноги, завернувшись в свои просторные полосатые плащи, — старики, внимавшие мальчику, ибо Иегуда и был для них мальчиком, — они сидели как давным-давно их предки сидели в своих шалашах из козьих шкур.
Пока Иегуда говорил, я следил за ними. И до сих пор я отчетливо помню их лица, их резко очерченные, суровые, острые, с орлиными носами, непримиримые лица, обветренные, бородатые лица, по которым издалека можно было признать евреев; и неповторимыми сделали эти лица не их внешние черты, но их образ мысли и образ жизни, которые наложили свою неизгладимую печать на очертания носа, глаз, рта и щек, — лица адонов, учителей и почитаемых старцев.
Люди привыкли чтить седину — а разве не видели старцы, что у Иегуды, который был в расцвете своей юношеской красоты, в волосах и бороде уже пробивается седина? Сначала все они были настроены против него, но по мере того, как он говорил, они смягчались, и, наблюдая за ними, я снопа думал о беспредельной простоте моего брата и еще кое о чем, ибо в нем была непререкаемая властность, покорявшая всех. Не знаю, осознавали они это или нет, но в тот вечер Иегуда установил железный закон для нашего народа, которому предстояло тридцать лет ожесточенно сражаться за свободу. Многие ли из этих стариков остались еще в живых? Но тогда они об этом не думали. Они вглядывались в этого юношу, в котором как бы воплотились все предания Израиля, юношу, который был прекрасен, как Давид, чист и целеустремлен, как Гидеон, страстен, как Иирмеягу (Иирмеягу — Иеремия.), и гневен, как Иешаягу, и на их суровых лицах разглаживались морщины, и все чаще и чаще повторяли они:
— Аминь! Да будет так!
И при этом Иегуда возложил на себя и на нас, его братьев, самое тяжелое бремя. Не мне его судить, но, я бы так не сделал. Однако Иегуда так сделал не знаю, к добру или к худу. Он взял на себя руководство военным обучением людей и боевыми действиями — такова была цена, которую он платил. Эльазар и мальчик Ионатан остались при нем.
На Иоханана он возложил снабжение и заботу о пропитании. Мне, Шимъону, предстояло судить людей, и я должен был творить суд сурово и нелицеприятно, железной рукой — так, как судят на войне. Такую цену я платил.