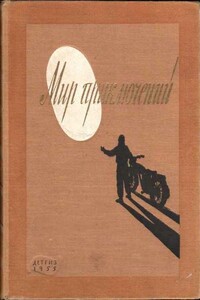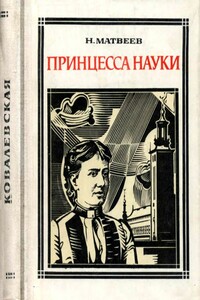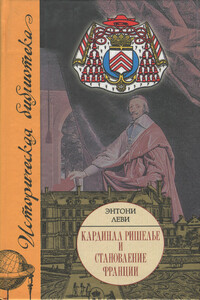— И надолго все это? — спросил Иоханан.
Рагеш воскликнул:
— Хоть навсегда. Хоть до дня страшного суда!
— Нет, это не навсегда, — сказал Иегуда. И Эльазар, положив на стол свои огромные руки, нагнулся вперед, к Иегуде; он улыбался, и Ионатан тоже улыбался, и в улыбке его была не радость — нет, он улыбался чему-то, что он видел своим внутренним взором, и молодое лицо его, освещенное светильником, сияло, и огонь горел в его глазах.
Я не мог уснуть и вышел в ночную тьму. На склоне холма кто-то стоял. Я подошел ближе и увидел, что это отец мой, адон; закутавшись в свой шерстяной плащ, он стоял и смотрел на спящую долину, озаренную луной.
— Привет, Шимъон, — сказал он мне. — Подойди, побудь со мной. Старику легче, когда его сын рядом с вам.
Я подошел к нему, и он обнял меня за плечи.
— Чего ты здесь ждешь, отец? — спросил я. Он пожал плечами и ответил:
— Может быть, ангела смерти, который так часто посещает нашу Иудею. Или, может быть, я просто хочу поглядеть еще раз на эти серебристые взгорья: ведь я же прилепился к ним сердцем, это древняя земля моих отцов. А ты приходишь сюда потому, что в тебе — горе и ненависть, и они, как нож, вонзились тебе в сердце.
Поверишь ли, Шимъон, ведь когда-то я так же любил одну женщину, но она умерла от родов, и сердце мое затвердело, как горный валун, и я кричал Богу Израиля: «Будь Ты проклят! Ты подарил мне пять сыновей, а отнял ту единственную на свете, кого я люблю!» Но Бог справедлив, он кладет на одну чашу весов слова человека, а на другую — его горе; ибо подумай, как благословен я был в эти годы, годы моего увядания.
Мои пятеро сыновей не обратились против меня, хоть был я суров и холоден с ними, и ни один из них не поднял руки на другого, — а ведь этого не мог сказать о своих сыновьях даже сам Яаков, благословенна память его! Как же, Шимъон, твое сердце может обратиться в камень?
— А ты хочешь, чтобы я смеялся от радости? — спросил я.
Старик кивнул, и его длинная белая борода опустилась ему на грудь.
— Хочу, Шимъон. Мы здесь, на земле, живем всего только день. Давно ли Мататьягу целовал женщину вон под тем оливковым деревом? Я закрываю глаза, и мне сдается, что это было только вчера, и нам всего лишь мгновение дано пробыть на лоне древнего Израиля. Господь ждет не слез, но смеха, а мертвые спят спокойно. Живые должны радоваться — если не за это, так за что же еще нам сражаться, Шимъон? Что даст тебе силы сражаться, и уповать, и верить, если тебя влечет к мертвецам?
— Ненависть, — ответил я.
— Ненависть? Поверь мне, сын мой, ненависть — это не то, что может вдохновить еврея. Как написано в одном из свитков, которые они сожгли? «И провозвестишь свободу по всей земле всем живущим; и будет то прославление твое; и вернешь ты всякого к тому, чем владеет он, и всякого к семье своей».
Иешаягу (Иешаягу — Исая.) не призывает людей к ненависти, он учит их, что справедливость должна быть глубокой, как море, а право — словно могучий поток. Сбереги свою ненависть для врагов, сын мой, для своего же народа взлелей в своем сердце любовь и надежду; а иначе — отложи в сторону свой лук, прежде чем ты положишь на тетиву хоть одну стрелу. Взгляни, Шимъон, разве одному только Рагешу, этому неистовому маленькому человеку Господь дал право решать, кто Маккавей? Лишь народ может кого-то из своих назвать Маккавеем и вознести его. Да, они пойдут за Иегудой, ибо он — как пламя; и я, его отец, говорю тебе, его брату, что никогда не рождался еще в земле Израиля такой человек, как Иегуда да, даже сам Гидеон не сравнится с ним, да простит мне Господь. Но пожар разгорается — и кто может из пепла построить новую жизнь? Шимъон, Шимъон…
— Войдем в дом, — сказал я, ибо старик тяжело оперся на меня и слегка дрожал, — ночь такая холодная.
— Да, — ответил он, — и я, старый дурак, слишком уж разболтался, а сказал-то мало путного.
И, поддерживая адона, я повел его вниз по склону холма.
На другой день я пришел в дом Моше бен Аарона. Винодел стал похож на свои виноградины, выжатые досуха и уже ни на что не годные; а его жена сидела в углу, как тень, накинув на голову черное шерстяное покрывало.