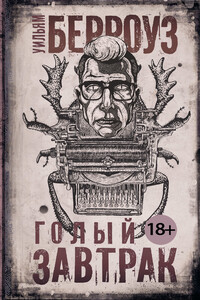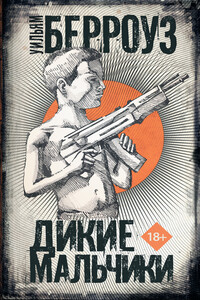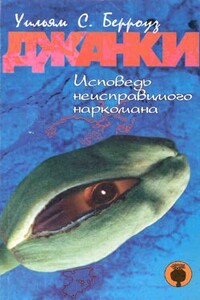Я оставляю прежнего возлюбленного, который завел себе жену и во мне больше не нуждается. Глядя на спутанные корни, гниющие плоды и фосфоресцирующие экскременты, я понимаю, что должен принять природу своей собственной потребности.
Почему мне нужно, чтобы во мне нуждались, и почему я не могу противостоять этой жалкой потребности и устранить ее? Ибо необъяснимая и, следовательно, неумеренная потребность всегда жалка и неприглядна. Человек, страдающий, сколь бы интенсивно он ни страдал, от неосуществимых сексуальных потребностей, всегда становится объектом презрения. Винить в этом он может только себя. Но ему, может быть, очень трудно признать те свои части, которые он может обвинить.
Боль размышлений о том, как развлекаются мой потерянный возлюбленный и его новая любовница, вовсе не задумываясь о моей боли и потребности, режет меня, точно вымоченный в соли проволочный хлыст.
Когда ты не молвил день и расщепил час
Я подумал: Что секундам делать после часа?
И еще подумал: Минуты здесь должны пройти.
Так сказал Эдгар Аллан По
В краткий миг пред тем как мертвые эоны
обвинили живые месяцы ни за что и за все
Но никто и ничто не смогло залечить раскола
когда время стенало точно отрезанный коралл
И времени не оставалось больше, чтобы затянулись
раны пробитого времени сочащегося в
пустоту использованных бритв в
сердце ревущего Техаса
Ибо порок их невозможно исцелить
Лучше отнести его к волнам что
унимают пластыри дождливых дней
И завершить отчаянные вспышки
спрея с краской поперек накрененных омутов
Унынья и ртутных отравлений
Ибо нет успокоенья в пригородной зоне для
лилового стенанья утраченной бугенвиллии
Поскольку только после всего нынешнего и ныне
писанного эоны назад сломанной каменной мотыгой
согбенной тяжестью веков встает он
и протягивает тебе свои ныне-мозолистые
руки что портят affreuse(100) баббл-гама,
фривольность, зубками вставными
в вопящем черепе, расплавленным свинцом
в ухо исходящее на крик и хрупким
нюансом сального страха. Еще не
поздно перевернуть эту страницу.
Я дожидаюсь Пола Клейна из Галереи Клейна в Чикаго -- он должен прийти и отобрать картины для предстоящей выставки. Звонок в дверь. Я открываю, там, на резиновом коврике с выдавленной надписью "Добро пожаловать", стоит человек. Я жестом приглашаю его зайти. Жестом прошу садиться в кресло из зеленой искусственной кожи, довольно удобное, куплено за пять долларов на соседской распродаже. Сам сажусь в нескольких футах от него за круглый столик с лампой, которая зажжена постоянно. Он подходит и подсаживается ко мне за столик.
-- Мне хочется быть поближе к вам, -- говорит он.
У него с собой потертый дипломат, и он извлекает оттуда какие-то брошюры. О брошюрах я помню только то, что некоторые фразы там набраны крупнее и жирнее, чем другие. Но одно слово застревает в памяти, и с тех пор я никак не могу найти ту брошюру, за которую отдал ему два доллара. (Тогда еще существовали двухдолларовые купюры.) О самом человеке я тоже ничего не могу припомнить, кроме той близости, которую он оставил после своего ухода. Ни толстый, ни худой -- ни молодой, ни старый. Единственное впечатление -- его серое присутствие.
Вскоре после этого приехали Клейн с женой и выбрали картины.
Я поехал на открытие выставки, где продали три картины.
Снова в Лоуренсе, у себя дома с двумя спальнями, я делаю заметки на каталожных карточках. Я написал: "Ив Клейн иногда поджигал свои холсты" (я тоже так поступал с деревянными скульптурами, и результаты иногда оказывались хорошими), -- когда приезжает Джеймс и говорит мне, что Галерея Клейна, фактически -- весь квартал, где располагалась галерея, сгорела до основания. Никаких свидетельств того, что к пожару имел отношение сам Клейн.
Следует помнить, что Ив -- не совсем имя, скорее обращение, вроде "мистер". Любой Клейн, любой маленький человек мог перепутать провода, бросить сигарету (не до конца погашенную) в мусорную корзину. Он приехал туда первым. Из огня спасся кот, его назвал Болидом и унес домой прохожий.
Немыслимо ведь, чтобы эти события были как-то связаны?