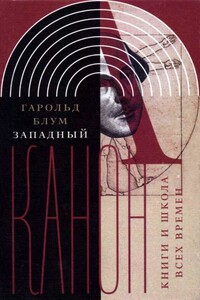Модификации романной формы в прозе Запада второй половины ХХ столетия - страница 42
В символико-метафорически емкий образ «патетики скверны» (185), которым определил Манн состояние души во зле своего Леверкюна, всецело вместима душевно-духовная коррозия Гренуя, для которого внеличностно-человеческое как «доброе» и «благородное»: ни души, ни Бога, ни матери, ни святого, ни привязанности, ни ответственности не знает, не признает и не способен знать Гренуй. Пусть не в той же мере рационально, как Леверкюн, а скорее прирожденно, но парфюмер Зюскинда, как и композитор Манна, принимает «патетику скверны» как «убеждение в том, что приобщенность к жестокости, злу, грязи, извращенности, болезненности — неизбежность и закон для современного человека, особенно для человека крупного, талантливого, творческого»[229].
Как нравственный момент зла душевной жизни акцентирует Т. Манн личный выбор дьявольского, заставляя своего героя в исповеди возложить на себя вину за этот выбор: «Поистине в том, что искусство завязло, отяжелело и само глумится над собой, что… горемычный человек не знает, куда ж ему податься, — в том… виною время. Но ежели кто призвал нечистого и прозаложил ему свою душу… тот сам повесил себе на шею вину времени и предал себя проклятию» (404). И в той же мере, не только умозрительно, но главное — в волепроявлении и претворении в действие (и жизнь), проявляет себя герой Зюскинда. Решив покорить людей, как говорилось, Гренуй задается вопросом, «зачем вообще хочет этого». И без «эйфорического подъема», без «безумного огня в глазах», без «сумасшедшей гримасы» на лице, но преисполненный ясности и веселости, отвечает себе, «что хочет этого потому, что насквозь пропитан злом» (78).
Всецелая сконцентрированность на своем «я» в романе Манна, а вслед за ним и у Зюскинда, — «первичное, основное нравственное зло»[230]. Оно-то и порождает в Леверкюне и Гренуе признание своих интересов высшей жизненной ценностью. До провозглашения себя «благословенной личностью» (107), как Гренуй, Леверкюн не доходит, далек он и от гренуевской «химеры» своего превосходства над Богом, и от его стремления стать Творцом и Властелином мира и жизни. Хотя Леверкюн в момент страдания во зле (после смерти Непомука) отрицает «доброе» и «благородное», намереваясь отнять их у человечества, Добро (Бог) существует для Леверкюна как высшее жизненное начало и как его личностная потребность в любви, от «заказанности» которой для себя он страдает. И поэтому такие проявления нравственного зла, как приятие его и сживание с ним, самоотчуждение от «других», выявлены и Манном, и Зюскиндом. Но в «Парфюмере» они совмещены с самоутверждением путем насилия над человеком (завладеть тем, что есть у «других» и властвовать над ними) и доведены до нравственно-психологического беспредела, за которым «ничто».
Возникающие на этом уровне «соответствия» «Парфюмера» и «Доктора Фаустуса», бесспорно, говорят об ориентации Зюскинда на опыт художественного анализа зла у Манна, который действительно «создал своего рода художественную «феноменологию духа» XX столетия — отражение характера эпохи в духовном строе индивидуальности»[231].
Включенность Зюскинда в эту манновскую традицию выступает не только как «совпадения»: саморазрушение как общий итог приближенности ко злу (безумие Леверкюна, выбор смерти Гренуем), но не смирение с миром — искупления зла нет и не может быть для этих героев. Образ Гренуя отражает логику дальнейшего развития «гения зла» от середины века до его конца, но на уровне синтеза духовной культуры всего столетия[232].
Запечатлено это прежде всего в демонизме героев Манна и Зюскинда, в демонизме как приобщении человека ко злу. Леверкюн живет в дуализме, дилемме «добра» и «зла». Для Гренуя мир — чистое и абсолютное зло. И сатанинская «душа» Гренуя, запечатленная в «Парфюмере», вызывает представление (на уровне перехода «чувства» в «понятие») о духовной природе зла. Возможность зла и корни его в душе человека. Ибо зло — это особо сотканная природа души с обостренным чувством своего «я», в единстве позитивного и негативного, в постоянной возможности добра стать злом, в непредсказуемости проявления злого и доброго, в подвижности нравственных акцентов, в потенциальной готовности принять (смиряясь) любое зло, как и любое добро. И это знание сосредоточено в романной метафоре, синхронно явлено на двух уровнях микро- и макромира. Эта метафора