Неизменный мотив снега пронизывает весь роман, а развернутые его описания передают ощущение природного лабиринта или ассоциативно уподобляются ему: «Однообразные хлопья, постоянной величины, равно удаленные друг от друга, сыплются с одинаковой скоростью, сохраняя меж собой тот же промежуток, то же расположение частиц, словно они составляют единую неподвижную систему, непрестанно, вертикально, медленно и мерно перемещающуюся сверху вниз» (275)[189].
Лабиринтное ощущение автор передает не только в повторяющихся описаниях других, но похожих и совпадающих в деталях лиц, предметов, явлений. Романист, подчеркивая подобие, постоянно вводит «указательные формы» — «такой же», «тот же», которые повторяются в одной фразе или в одном периоде. И эти «лексические указания», и прозаический ритм, возникающий как «синтаксический параллелизм», становятся формой воплощаемой неизменности: «Снова наступил день, такой же белесый и тусклый. Но фонарь погас. Те же дома, те же пустынные улицы, те же цвета — белый и серый, та же стужа» (257)[190].
Xyдожественная деталь у Робб-Грийе, как всегда, материально-конкретная и почти физически ощутимая, становится отражением «взгляда» на мир как на череду повторений. На картине, изображающей кафе, в «живой» сцене в кафе, в интерьере комнаты (комнат?) одного из домов — всюду возникает одна и та же деталь: «испещренная квадратиками клеенка», «красно-белые квадратики клеенки, похожей на шахматную доску» (257), «красно-белая клетчатая клеенка» (336)[191]. Воспроизводимая часто в одной и той же словесной оформленности, эта деталь воспринимается как художественная «формула» навязчивых, неотступных повторений. И вместе с тем она включается в «макромир» романа, ибо ее шахматный орнамент ассоциативно соотносится с «шахматной доской совершенно одинаковых улиц» (256)[192], по которым обречен скитаться герой Робб-Грийе.
Сеть переплетающихся в неизменных повторах лейтмотивных образов и ключевых слов образует лабиринтное пространство и романно-метафорической реальности, реальности вербальной, текстовой: «улицы», «дома», «коридоры», «комнаты», «кафе». В особой роли здесь — ставшая лабиринтным лейтмотивом художественная деталь «двери». Она конкретно-интерьерна и одновременно метафорична, воплощая и лабиринтные переходы, и препятствия, и манящую возможность выхода. «Деревянная дверь с резными филенками выкрашена в темно-коричневый цвет» (264). «Дверь — как все прочие двери» (235). «Справа и слева — двери. Их больше чем прежде, они все одинаковой величины, очень высокие, узкие и сплошь темно-коричневого цвета» (289)[193]. Вереницы коридорных дверей, уходящих вдаль. Двери, закрытые и приоткрытые в полумрак. Множество и единообразие закрытых дверей, которые, открываясь, обнаруживают единоподобие и повторение коридоров, комнат, улиц, интерьеров. Безвыходное замкнутое повторение иллюзорных надежд…
Лейтмотив «двери» в романе Робб-Грийе балансирует на грани и внешнего, и внутреннего мира в их, подчас, взаимонеразличимости. И едва уловим переход от внешнего метафорического смысла образа «двери» к нему же, но уже как к метафоре внутреннего лабиринтного состояния солдата. Оказавшись перед очередной дверью, он проигрывает в сознании[194] ту (уже известную) картину, которая развернется перед ним. Это вызывает неожиданный эмоциональный выплеск против неизменного лабиринта жизни (безвыходности?). Вербально он выражается в градируемых повторах «нет», которые здесь переплетены с повторяющимся мотивом «двери»: «…дверь, коридор, дверь, передняя, дверь, потом, наконец, освещенная комната, стол, пустой стакан с кружком темно-красной жидкости на дне, и калека, который, наклонясь вперед и опираясь на костыль, сохраняет шаткое равновесие. Нет. Приоткрытая дверь. Коридор. Лестница. Женщина, взбегающая все выше с этажа на этаж по узкой винтовой лестнице, извивающийся спиралью серый передник. Дверь. И наконец — освещенная комната: кровать, комод, камин, письменный стол с лампой в левом углу, белый круг света. Нет. Над комодом гравюра в черной деревянной раме.
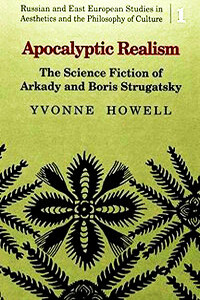
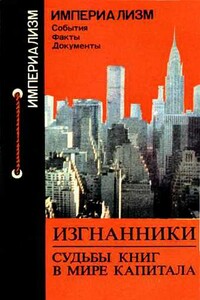

![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)