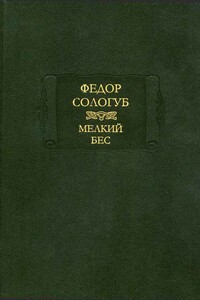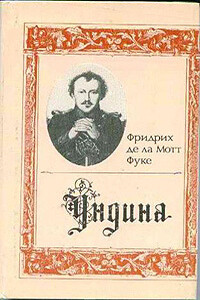[414]Анаксимен [415] писал Пифагору: «Могу ли я увлекаться тайнами звезд, когда у меня вечно пред глазами смерть или рабство?». (Ибо это было в то время, когда цари Персии готовились итти походом на его родину). Каждый должен сказать себе: «Будучи одержим честолюбием, жадностью, безрассудством, суевериями и ощущая внутри себя столько других врагов, угрожающих моей жизни, буду ли я задумываться над движениями небесных светил?».
После того как юноше разъяснят, что же, собственно, ему нужно, чтобы сделаться лучше и разумнее, следует ознакомить его с основами логики, физики, геометрии и риторики; и, какую бы из этих наук он ни выбрал, — раз его ум к этому времени будет уже развит, — он быстро достигнет в ней успехов. Преподавать ему должны то путем собеседования, то с помощью книг; иной раз наставник просто укажет ему подходящего для этой цели автора, а иной раз он изложит содержание и сущность книги в совершенно разжеванном виде. А если сам воспитатель не настолько сведущ в книгах, чтобы быть в состоянии отыскивать в них подходящие для его целей места, то можно будет дать ему в помощь какого-нибудь ученого человека, который каждый раз будет снабжать его тем, что требуется, а наставник потом будет уже сам указывать и предлагать их своему питомцу. Можно ли сомневаться, что подобное обучение много приятнее и естественнее, чем преподавание по способу Газы [416]? Там — докучные и трудные правила, слова, пустые и как бы бесплотные; ничто не влечет вас к себе, ничто не будит ума. Здесь же наша душа получит вдоволь поживы, здесь найдется, чем и где попастись. Плоды здесь несравненно более крупные и созревают они быстрее.
Странное дело, но в наш век философия, даже для людей мыслящих, всего лишь пустое слово, которое, в сущности, ничего не означает; она не находит себе применения и не имеет никакой ценности ни в чьих-либо глазах, ни на деле. Полагаю, что причина этого — бесконечные словопрения, которыми ее окружили. Глубоко ошибаются те, кто изображает ее недоступною для детей, с нахмуренным челом, с большими косматыми бровями, внушающей страх. Кто напялил на нее эту лживую маску, такую тусклую и отвратительную? На деле же не сыскать ничего другого столь милого, бодрого, радостного, чуть-было не сказал — шаловливого. Философия призывает только к празднествам и веселью. Если пред вами нечто печальное и унылое, — значит философии тут нет и в помине. Деметрий Грамматик, наткнувшись в дельфийском храме на кучку сидевших вместе философов, сказал им: «Или я заблуждаюсь, или, — судя по вашему столь мирному и веселому настроению, — вы беседуете о пустяках». На что один из них — это был Гераклеон из Мегары — ответил: «Морщить лоб, беседуя о науке — это удел тех, кто предается спорам, требуется ли в будущем времени глагола

две ламбды или одна или как образована сравнительная степень
и
и превосходная
и
[417]. Что же касается философских бесед, то они имеют свойство веселить и радовать тех, кто участвует в них, и отнюдь не заставляют их хмурить лоб и предаваться печали».
Deprendas animi tormenta latentis in aegro
Corpore, deprendas et gaudia: sumit utrumque
Inde habitum facies.
[418]Душа, вместившая в себя философию, не может не заразить своим здоровьем и тело. Царящие в ней покой и довольство она не может не излучать во вне; она не может, равным образом, не переделать по своему образу и подобию нашу внешность, придав ей, соответственно, исполненную достоинства гордость, веселость и живость, выражение удовлетворенности и добродушия. Отличительный признак мудрости — это неизменно радостное восприятие жизни; ей, как и всему, что в надлунном мире, свойственна никогда не утрачиваемая ясность. Это barroco и baralipton [419] измазывают и прокапчивают своих почитателей, а вовсе не она; впрочем, она известна им лишь по наслышке. В самом деле, это она утишает душевные бури, научает сносить с улыбкой болезни и голод, не при помощи каких-то воображаемых эпициклов [420], но опираясь на вполне осязательные, естественные доводы разума. Ее конечная цель — добродетель, которая пребывает вовсе не где-то, как утверждают схоластики, на вершине крутой, отвесной и неприступной горы. Те, кому доводилось подходить к добродетели ближе других, утверждают, напротив, что она обитает на прелестном, плодородном и цветущем плоскогорий, откуда отчетливо видит все находящееся под нею; достигнуть ее может, однако, лишь тот, кому известно место ее обитания; к ней ведут тенистые тропы, пролегающие среди поросших травой и цветами лужаек, по пологому, удобному для подъема и гладкому, как своды небесные, склону. Но так как тем мнимым философам, о которых я говорю, не удалось познакомиться с этой высшею добродетелью, прекрасной, торжествующей, любвеобильной, кроткой, но, вместе с тем, и мужественной, питающей непримиримую ненависть к злобе, неудовольствию, страху и гнету, имеющей своим путеводителем природу, а спутниками — счастье и наслаждение, то, по своей слабости, они придумали этот глупый и ни на что не похожий образ: унылую, сварливую, привередливую, угрожающую, злобную добродетель, и водрузили ее на уединенной скале, среди терниев, превратив ее в пугало, устрашающее род человеческий.