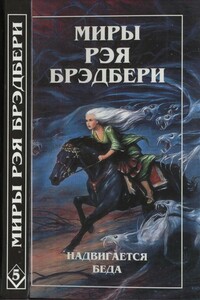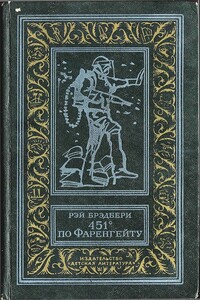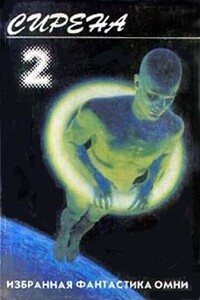Он уже видел, и не раз, что случалось с его друзьями, у которых появлялась такая привычка: только что были трезвыми, а минуту спустя, после одного-единственного глотка алкоголя, почти мертвецки пьяны — это все то мартини, выпитое за последние триста дней и поселившееся в крови, радостно бросается навстречу новой подружке. Вполне вероятно, что еще десять минут назад Элен была абсолютно трезвой. Теперь же она с трудом держала веки открытыми, а язык путался под ногами каждого слова, которое пыталось выйти из ее рта.
— Нет, Уилльямс, я серьезно! — повторила она. Прежде, помнится, она никогда не называла его просто Уилльямс — всегда добавляла «мистер».
— Уилльямс, мы крайне польщены тем, что вы дали себе труд посетить Пола и меня. Господи, у вас такие успехи за последние три года, вы сделали такой рывок в своей карьере, у вас прекрасная репутация, и теперь вам больше не нужно писать тексты для утренних телевизионных шоу Пола — для вас покончено с этой чертовой дребеденью.
— Почему же «чертова дребедень»? Вполне добротный материал. Пол — отличный продюсер, и я писал для него неплохие вещи.
— А я говорю, дребедень! Вы же настоящий писатель, теперь вы шишка в литературе, больше не надо сочинять ерунду за чистые гроши! Ну и как оно вам — быть преуспевающим романистом, у всех на устах, и иметь кучу денег в банке? Вот погодите, сейчас придет Пол — он весь прямо изождался вас. — Волны ее медленной речи захлестывали его. — Нет, ну вы просто душка, что навестили нас!
— Я обязан Полу буквально всем, — сказал Уилльямс, отвлекаясь от собственных невеселых мыслей. — Я начинал в его шоу в тысяча девятьсот пятьдесят первом, когда мне исполнился двадцать один год. Платили десять долларов за страницу…
— Стало быть, сейчас вам тридцать один. Господи, еще совсем молодой петушок! — сказала Элен. — Уилльямс, а сколько мне, по-вашему? Давайте-давайте, попробуйте угадать. Ну, сколько мне?
— О-о, я, право, не знаю, — сказал он и покраснел.
— Нет, давайте угадайте-ка, сколько мне лет? «Миллион, — подумал он, — вам внезапно исполнился миллион лет. Но Пол-то должен быть в порядке. Вот он скоро придет, и с ним-то уж непременно все в порядке. Любопытно, узнает ли он вас, Элен, когда войдет в квартиру».
— Увы, я не мастак угадывать возраст.
Ваше тело, думалось ему дальше, состоит из нью-йоркских побывавших в употреблении булыжников — в вас столько невидимой смолы и асфальта и трещин от непогод! В вашем выдохе — сто процентов окиси углевода. Ваши глаза — истерической неоновой синевы, а губы — как багровая неоновая реклама. Ваше лицо — цвета побелочной извести, какой красят каменные фасады, подпуская по ним здесь и там лишь немного зеленого и голубого. Вены горла вашего, виски ваши и запястья похожи на нью-йоркские крохотные скверики: там больше всякого мрамора и гранита, дорожек и тропок, чем собственно травы и неба, — вот и в вас больше всякого…
— Валяйте, Уилльямс, угадывайте, сколько мне лет?
— Тридцать шесть?
Она почти неприлично взвизгнула, и он решил, что переборщил с дипломатией.
— Тридцать шесть?! — прокричала она, хлопая себя по коленям. — Тридцать шесть! Дорогой мой, вы не можете говорить это серьезно! Вы шутите! Господи! Конечно же, нет. Мои тридцать шесть были ровнехонько десять лет назад.
— Мы прежде как-то не заводили разговоров о возрасте, — запротестовал он.
— Ах вы, милый невинный младенец! — сказала Элен. — Прежде это не было важно. Но вы и не представляете, какую важность это может приобрести — поначалу совсем незаметно для вас. Господи, вы так молоды, Уилльямс! Вы хотя бы понимаете, до чего вы молоды?!
— Более-менее понимаю, — сказал он потупившись.
— Дитя, прелестное дитя, — не унималась Элен. — Обязательно скажу Полу, когда он придет. Тридцать шесть — ну вы и дали! Но ведь я и впрямь не выгляжу на сорок — и уж тем более на сорок шесть. Ведь правда, дорогой?
Никогда раньше она не задавала подобных вопросов, подумалось ему. А человек сохраняет вечную молодость лишь до тех пор, пока не начинает задавать окружающим подобных вопросов.
— А Полу исполняется всего сорок. Завтра день рождения.