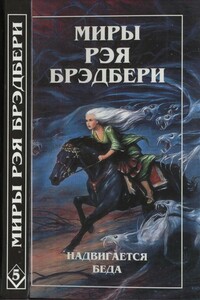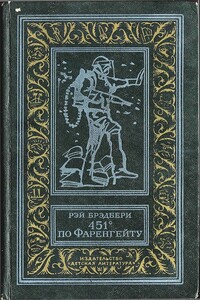И с этими словами он пулей устремился к двери и был таков.
Снова я увидела его только на следующее лето. Да и тогда всего лишь один раз, мельком, когда моя матушка велела отнести чистые простыни в летний домик, где жили Харрисоны, мать и сын.
Впервые я сделала паузу в своей ненависти к нему в то лето, когда нам было по двенадцать.
Однажды он позвал меня из-за стеклянной двери павильона и, когда я выглянула, сказал тихим спокойным голосом:
— Анна Мария, когда мне исполнится двадцать и тебе исполнится двадцать, я женюсь на тебе.
— Размечтался! — фыркнула я. — Так я и вышла за тебя замуж!
— Так и выйдешь, — убежденно сказал он. — Запомни мои слова, Анна Мария. И жди меня. Обещаешь?
Конечно же, я утвердительно кивнула. Как иначе?
— А как насчет… — вдруг встрепенулась я.
— О, она к тому времени уже умрет, — мрачно произнес он. — Она старая. Очень старая.
Он повернулся и пошел прочь.
А на следующее лето он так и не объявился на курорте. Я слышала, будто его мать больна. И по вечерам, перед сном, я истово молилась, чтобы она побыстрее окочурилась.
Но двумя годами позже они вновь появились у нас и уже больше не пропускали ни одного лета. Мы все росли и росли, и вот уже нам стукнуло по девятнадцать. Еще потерпели — и дотянули до двадцати. И вот, впервые за все время, они появились в павильоне вместе. Она была уже в инвалидной коляске и уже тогда непрестанно зябла и куталась в меха. Ее лицо под слоем пудры походило на жеваный пергамент.
Пока я ставила перед ней многослойное мороженое, она пристально рассматривала меня, потом повернулась к Роджеру, потому что он произнес:
— Мамочка, я хочу представить тебе…
— Я не знакомлюсь с девицами, которые прислуживают в буфетах! Я не отрицаю тот факт, что они существуют, работают и получают жалованье. Однако я тут же забываю их имена.
Она капризно ковырнула ложечкой мороженое — раз, другой. Но Роджер так и не прикоснулся к своему.
Они уехали на день раньше обычного. Я увиделась с Роджером в холле гостиницы, когда он оплачивал счет. На прощание он прощально нежно взял меня за руку, а я не удержалась и сказала:
— Ты кое-что забыл.
— Багаж здесь, — стал вспоминать он. — Счет оплачен. Бумажник на месте. Нет, похоже, я ничего не забыл.
— Когда-то давно, — напомнила я, — ты дал мне одно обещание.
Он молчал.
— Роджер, — сказала я, — нам уже по двадцать. Тебе и мне.
Он схватил мою руку — так испуганно и проворно, словно он падает за борт, а я пячусь прочь и, отказав в помощи, позволяю ему рухнуть в пучину.
— Подожди еще год, Анна! Или два-три — не больше!
— О нет! — вскрикнула я в отчаянии.
— В самом худшем случае — четыре года. Доктора говорят…
— Роджер, доктора не знают того, что знаю я. Она будет жить вечно. Она переживет и тебя, и меня и будет попивать вино на наших похоронах.
— Да у нее ни одного здорового места нет! Анна, ей долго не протянуть, это же очевидно!
— С ней ничего не случится, потому что у нее есть могучий источник силы. Она прекрасно понимает, что мы ждем не дождемся ее смерти. И черпает силы в желании досадить нам.
— Я не могу вести подобные разговоры! Не могу! Подхватив чемоданы, он заспешил через холл к выходу.
— Роджер, я ждать тебя не стану! — крикнула я вслед. У самой двери он оглянулся — бледный-бледный — и посмотрел на меня так беспомощно, что я была не в силах повторить свою угрозу.
Дверь за ним закрылась.
А там и лето закончилось.
На следующее лето Роджер первым делом примчался к моему лотку с содовой водой.
— Это правда? Кто он?
— Пол, — ответила я. — Ты же знаешь Пола. В один прекрасный день он станет главным менеджером отеля. Мы поженимся этой осенью.
— Ты не оставляешь мне времени! — охнул Роджер.
— Поздно спохватился. Мы уже обручены.
— Господи! Они обручены! Да ты же его не любишь!
— Пожалуй что и люблю.
— «Пожалуй»! Так «пожалуй» или любишь? Это разные вещи! А вот меня ты любишь без всяких «может быть»!
— Ты так уверен, Роджер?
— Не надо всех этих штучек-дрючек! Ты же прекрасно знаешь, что любишь меня! Ах, Анна, ты будешь несчастна!
— Я и сейчас несчастнее некуда, — сказала я.
— Анна, не пори горячку! Дождись меня!