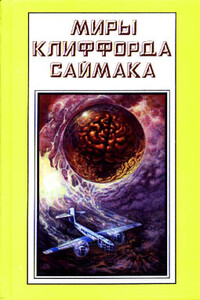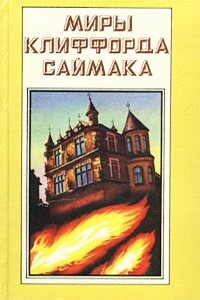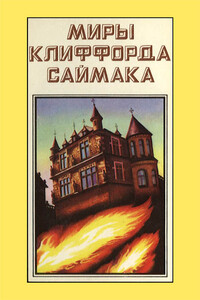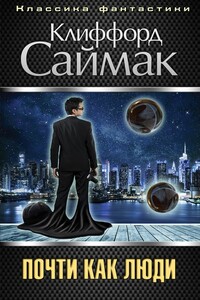Солнце уходящего лета светило по-прежнему ярко, но Инек то и дело вздрагивал от холодного ветра, налетавшего, казалось, из какого-то таинственного, иллюзорного измерения. Впервые в жизни ему пришлось задуматься о том, кто же он на самом деле. Преследуемый сомнениями человек, которому суждено прожить на перепутье между миром людей и миром инопланетян, испытывающий привязанность и к тем и к другим, терзаемый сомнениями и преследуемый призраками старых воспоминаний, что будут брести рядом сквозь годы и расстояния независимо от того, какую жизнь он себе изберет — на Земле или среди звезд? Сын двух культур, не понимающий до конца ни Землю, ни Галактику, задолжавший и тем и другим, но не способный ни с кем расплатиться? Бездомное, безродное, бродячее существо, которое не в состоянии определить, где добро, а где зло, потому что ему довелось увидеть слишком много разных (и по законам чужой логики вполне объяснимых) проявлений и того и другого?
Инек поднялся на холм, у подножья которого бил из земли родник; от ощущения вновь обретенной принадлежности к человечеству на душе у него потеплело — теперь его связывало с этим миром что-то вроде мальчишеского заговора. Но действительно ли он человек? И если это так, то как быть с его вековой преданностью Галактическому Центру? Да и хочется ли ему снова стать человеком?
Инек медленно прошел за ворота. В его мыслях беспрестанно сталкивались вопросы — огромный, неиссякающий поток вопросов, на которые нет ответов. Впрочем, подумал он, это не так. Ответы есть, но их слишком много.
Может быть, его навестят сегодня Мэри, Дэвид, все остальные люди-тени, и ему удастся обсудить с ними… Тут Инек вспомнил, что ни Дэвид, ни кто-то еще уже не придет. Они посещали его годами, но теперь все кончено. Волшебный свет померк, иллюзии разбились, и он остался один.
Совсем один, пронеслась горькая мысль. Все — иллюзии. У него никогда не было ничего настоящего. Долгие годы он обманывал себя — весьма охотно и добровольно, — населяя угол у камина творениями своего собственного воображения. Мучаясь одиночеством, не имея возможности видеть и слышать людей, он создал по инопланетной методике существа, способные обмануть любое чувство, кроме осязания.
В общении с ними подводило даже чувство меры.
Странные создания, подумал он. Несчастные создания, не принадлежащие ни миру теней, ни миру живых.
Слишком человечные для мира теней и слишком бесплотные для Земли.
Мэри, если бы я только знал заранее… Я никогда бы этого не сделал. Мне самому было бы легче остаться в одиночестве…
Но теперь ничего уже не поправишь. И помощи ждать неоткуда.
«Однако, — встревожился Инек, — что-то со мной происходит? В чем дело?»
Он совершенно перестал соображать. Пообещал себе спрятаться в помещении станции, чтобы избежать встречи с пьяной толпой, если те явятся к дому, но это невозможно: вечером, едва стемнеет, Льюис должен привезти тело сиятеля.
И если они появятся одновременно, тут черт знает что начнется.
Сраженный этой мыслью, Инек долго стоял в нерешительности. Если он предупредит Льюиса об опасности, тот может не привезти тело. А он просто обязан это сделать. Сиятель должен лежать в могиле до наступления ночи.
Придется рискнуть, решил Инек.
Может быть, толпа еще не нагрянет. А если это все же произойдет, какой-нибудь выход из положения наверняка найдется.
Он что-нибудь придумает.
Должен придумать.
В помещении станции по-прежнему стояла тишина. Новых сообщений не поступало, и аппаратура молчала — не слышно было даже приглушенного гудения материализатора.
Инек положил винтовку на стол, бросил рядом стопку газет, затем снял куртку и повесил ее на спинку стула. Пора наконец заняться газетами, напомнил он себе, и не только сегодняшними, но и вчерашними тоже. Да и дневник надо бы привести в порядок, а это займет немало времени. Выйдет, пожалуй, несколько страниц, даже если писать плотно, и события надо излагать четко, последовательно, чтобы все выглядело так, словно о вчерашних событиях он написал вчера, а не день спустя. Нужно описать каждое событие, каждую грань происшедшего и все, что он по этому поводу думает. Так он делал всегда и так же должен сделать сегодня. Ему это неизменно удавалось, потому что он создал для себя как бы особую нишу — не на Земле, не среди галактических просторов, а в каком-то неопределенном мире, который можно было бы назвать бытием, — и работал там, словно средневековый монах в своей келье. Он был всего лишь наблюдателем. Правда, в высшей степени заинтересованным — его часто не устраивала пассивная роль, и он делал попытки внедриться в наблюдаемое, чтобы его понять, но тем не менее он оставался именно наблюдателем, никак не вовлеченным в происходящее. Впрочем, осознал вдруг Инек, за последние два дня он этот статус утратил. И Земля, и Галактика активно вмешались в течение его жизни, стены кельи рухнули, и он оказался втянутым в самую гущу событий. Теперь он уже не сможет сохранить объективность, не сможет относиться к фактам спокойно, непредвзято, а такое отношение всегда служило ему основой для работы над дневниками.