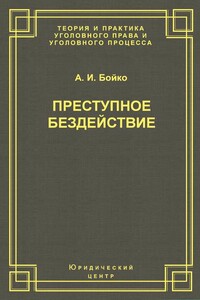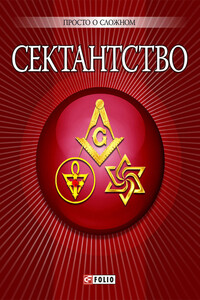Закон прекратил действие как юридическое средство, но продолжает действовать в духовном плане с теми поправками, которые внесены Иисусом Христом. Так, в отношении шестой заповеди, «Не убивай», Он говорит: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай; кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Мф. 5, 21–22). Или: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших…» (Мф. 5, 43–44). До требования любви к врагам наше законодательство не дошло, оно даже отходит от многих положений Закона, игнорируя установление ответственности за скотоложство, мужеложство (без насилия), как это было в предыдущем УК РСФСР, прелюбодеяние, непочтительное отношение детей к родителям, ворожбу и обращение к колдунам и т. д. Учитывая, что в России каких-либо общепринятых, тем более писаных, норм морали не существует, уголовное законодательство должно взять на себя роль источника норм общественной морали и нравственности. Если мы читаем УК РФ и видим отсутствие ответственности за скотоложство, то, естественно, руководствуясь принципом «разрешено все, что не запрещено законом», делаем вывод о допустимости моралью таких действий; если мужеложство осуждается обществом только в его насильственной форме, значит, ненасильственный акт одобряется. Представляется, что ответственность за скотоложство и мужеложство во всех его формах должна быть восстановлена, а за ворожбу и колдовство – установлена, хотя и не в прямой постановке. Что касается посягательств на родителей (равно как и родителей на детей), можно было бы отразить их в УК РФ в качестве обстоятельств, отягчающих наказание. Сложнее обстоит дело с прелюбодеянием. Это явление настолько распространилось и укоренилось, что правовыми средствами оно вряд ли устранимо, здесь необходимо использование воспитательных, в том числе религиозных, средств. Таким образом, Закон, сохраняя прямое духовное действие, должен опосредованно, с учетом новых реалий влиять и на законодательство светское.
Расширилось действие Закона и по кругу лиц. Евреи, которым был дан Закон первоначально, утратили богоизбранность нарушением Закона. Закон стал законом для всех, кто исполняет его. Сбылись слова Иисуса Христа: «Отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» (Мф. 21, 43); «И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием» (Лк. 13, 29).
Христианство, несущее в себе Закон Моисея в преображенном виде, стало государственной религией Римской империи, затем, в очищенном виде, религией Византии, а оттуда пришло и на Русь. С этого момента всю историю христианства, в том числе в ветхозаветной ее части, следует считать и историей русского православия. Как отмечает архимандрит Платон (Игумнов), принятие христианства в его византийской традиции явилось для Руси «ее историческим посвящением и введением в семью христианских европейских народов… С принятием христианства Русь стала полноправной участницей мирового культурно-исторического процесса…» [101] .
Таким образом, Закон Моисея не имеет пределов действия по деяниям, кругу лиц, месту и времени, по крайней мере в своей духовной части, но, выступая в качестве фактора, участвующего в образовании духовного поля, он влияет и на современное действующее право.
Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Законодательство Моисея опирается на писаные источники, что обеспечивает возможность его действия. До Законов Моисея существовали, конечно, нормы поведения, по которым жил еврейский народ. Однако они имели земной, сугубо бытовой характер, будучи основанными на обычаях и традициях. Законодательство Моисея – это первые систематизированные и писаные законы, данные Богом. Их можно с полным основанием охарактеризовать как первое слово Господа Бога в области права: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1, 1–3). Все, что было в юриспруденции государств, по крайней мере христианской ориентации, изначально исходило из Законов Моисея. В большинстве культур право «произошло от религии и в определенные эпохи, такие как католическое Средневековье или век пуританства, опиралось на религиозные элементы», которые только «за последние два столетия… были постепенно утрачены» [102] .