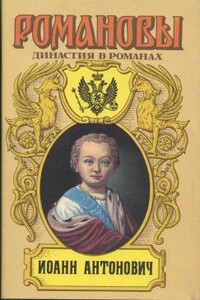Бывший гардеробмейстер Василий Григорьевич Шкурин, ныне бригадир и камергер, в праздничные дни вспоминая старую службу, любил сам обметать пыль со столов и прочей мебели императрицы. Так и теперь он, войдя в кабинет, обмахнул пучком перьев часы и камин и, занявшись полкой с книгами, стал по обычаю мурлыкать церковный кант. В таких случаях, в часы доброго расположения духа, и Екатерина любила в шутку подтягивать верному слуге. Возгласит он, подражая лаврскому архимандриту: «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твоё», Екатерина обернётся от бумаг и, на манер хора, протяжно ответит ему: «Ис-палла-эти деспота…»
Затянет Василий Григорьевич, вроде архиепископа Димитрия, чуть слышным, замирающим голосом: «Свете, тихий, святые славы… Отца бессмертнаго… святаго, блаженного», – императрица баском вторит ему: «Премудрость, вонмем».
Теперь Шкурин пропел начало известного тропаря и во второй раз нежно затянул любимую стихиру:
От юности моея мнози борют мя страсти…
Он помахивал пучком, вздыхал, оглядывался; императрица не отрывалась от стола и его не замечала. Уж он, кряхтя, взялся за дверь и готовился уйти.
– Что, Григорьич? Не в духе твоя кума? – вдруг отозвалась, обернувшись к нему, Екатерина. – Имеешь что-нибудь сказать?
– Как, матушка, не иметь? Да вот, пресветлая, углубилась ты в бумаги, не смел.
– Говори.
– Просительница одна ждёт тебя, многомилостивая, у садовника Титыча; с парадного не пустили, гнали, ко мне дошла.
– Кто она и по какому делу?
– Издалека, с Камыш-реки… на перекладной домчалась – всё по тому же… по завтрашнему-то случаю… девушка, из прежних, видно, дворских.
– Девушка? Кто такая?
– Плачет, не знаю, даже слёзы выплакала… ох, прими ты её, всемилостивая.
– Что же я могу, Бог мой? – спросила, вздохнув, Екатерина. – Что я для неё, когда и все-все?.. Алексей Петрович, гетман, Панин?..
– Допусти её, выслушай, – сказал, поклонившись в пояс, Шкурин.
Екатерина позвонила. Дежурный лакей ввёл худую, красивую, с янтарно-золотистыми волосами, девушку. Оставшись наедине с государыней, она опустилась у порога на колени.
– Встаньте, милая, ободритесь, – произнесла ласково, подходя к ней, Екатерина. – За кого вы просите?
– За Мировича…
– Монархи не властны в таких делах; не я судила его, и не я клала приговор. Кто вы и почему просите за него?
Худые плечи Поликсены вздрагивали. Бледные руки безжизненно были опущены вдоль тёмного, старенького платья. Запёкшиеся, сжатые губы не могли произнести ни слова.
– Кто вы? – повторила императрица. – Говорите, как матери отечества! Не бойтесь… мы одне.
– Я невеста Мировича, – ответила Поликсена, подняв на Екатерину убитый, потухший взор.
– Невеста?.. Что вы говорите!..
– Вижу, пощады не будет; молю об одном – дайте с ним проститься, разделить его последние минуты.
– Сядьте, милая, сядьте, вы падаете, – сказала, поддержав её, императрица. – Здесь, на софу… Так, невеста? Вы лучше всех знали его. Скажите откровенно, без утайки, – продолжала, сев возле гостьи, Екатерина, – что побудило его на столь дерзкий, безумный шаг? Притом в нём замечена такая зазорная, зверская окаменелость, такое упорство в невыдаче своих сообщников…
Поликсена медлила ответом.
– Государыня, можете ли хоть обещать? – спросила она.
– Всё, что в моих силах.
– Даже помилование? – вспыхнувшим взором впиваясь в Екатерину, спросила Пчёлкина.
– Увижу!.. По вашей искренности… Есть сообщники, подстрекатели?
– Есть… одно лицо.
– В живых оно? И вы знаете? – медленно спросила императрица.
– Знаю… в живых…
– Можете уличить, доказать?
– Могу.
– И его не привлекали к следствию?
– Его никто не знает, а в нём вся вина…
Екатерина встала. Облако прошло по её лицу.
– Извольте, – сказала она, – обещаю даже помилование; говорите, кто это лицо?
– Ваше величество, дело идёт о жизни и смерти близкого мне человека… простите, – назову зачинщика и подстрекателя, если только удостоите… если помилование Мировича будет неотложно…
– Не верите? – спросила, нахмурясь, Екатерина.
Поликсена, ломая руки, боролась с собой.
– Кто ж подстрекатель? кто?
– Я, государыня! – негромко проговорила Поликсена.