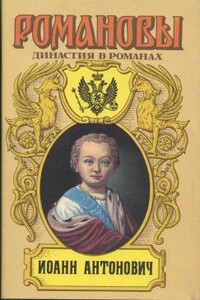– Ну, Богдан Крестьяныч, мне до божества далеко, – произнесла, улыбнувшись, Екатерина, – а ценя ваш гений и службу бывшим государям, объявляю: отныне дверь моего кабинета всегда с часа, когда я отдыхаю от работ, отворена для вас…
Даже заведомые, личные, недавние враги новой императрицы стремились завербовать себе фавор и случай при новом дворе. Екатерина писала новому своему секретарю, Елагину: «Перфильич, сказывал ли ты Лизаветиным (фаворитки Петра Третьего) родственникам, чтоб она во дворец не размахнулась; а то боюсь, к общему соблазну, завтра прилетит». Ему же Екатерина писала вскоре на домогательства о пособиях бывших сподвижников: «Имеешь сказать камергерам Ласунскому и Рославлевым, что, понеже они мне помогли взойтить на престол для поправления порядков в отечестве своём, – я надеюсь, – они без прискорбия примут мой ответ, а что действительная невозможность раздавать ныне деньги, тому ты сам свидетель очевидный».
Хвалебная ода Ломоносова, в честь новой императрицы, была принята холодно. Её нашли слишком откровенною и смелою и почти о ней не говорили. Увидели неуместный намёк в стихе:
Дражайший Павел наш, мужайся
– и не понравилась строфа:
Услышьте, судии земные
И все державные главы:
Законы нарушать святые
От буйности блюдитесь вы.
Предметом общих разговоров Петербурга стал объявленный на сентябрь того же 1762 года отъезд императрицы и двора на коронацию в Москву.
Мирович всем, что так нежданно-негаданно произошло ним и вокруг него, был ошеломлён, раздавлен. Все планы, надежды, все его смелые предположения были опрокинуты, разбиты вдребезги. Ему не удалось – как он ни смело и ловко это задумал – предупредить печальной участи бывшего императора, от милостей которого он столько ждал. Принц Иоанн, свобода которого, по-видимому, была так осуществима, близка и образ которого, «мстящий фантом» – как казалось Мировичу – было так легко вызвать из мрака в общей сумятице и грозно, воочию народа, перед всеми поставить в тылу победителей, – этот несчастный узник был снова и уже теперь, вероятно, безвозвратно и навсегда увезён, скрыт и заточён. И во всём том – Мирович чувствовал это и упорно, против воли, сознавал – он один был виною: невольно спас Екатерину от гибели, при её въезде в Петербург, не умел лично и в должный момент сообщить Петру Фёдоровичу о затеваемых против него ковах, не успел, наконец, и с последней услугой принцу, которого увезли с острова от Гудовича обратно в Шлиссельбург. «Доля ты, каторжная, злая! – в бессильном негодовании и бешенстве повторял и клял себя Мирович. – Да когда ж ты будешь ласковой матерью, а не бьющею злою мачехой?..»
У Василия Яковлевича оставалась одна надежда, слабая тень надежды, – на свидание с Пчёлкиной.
Чего он ждал от этой встречи, и сам он не мог себе объяснить. Жажда тёплого участия, жалости к себе, обмена с любимым существом мыслью об утерянном, угасшем навсегда, – мучила его, манила и, дразня, жгла несбыточной, дикой мечтой на поправление и спасение чего-то.
Аполлон Ильич Ушаков, провожая его с пожара дачи Гудовича в Галерную гавань, к Селиванову, сообщил ему, что зашевелились столичные масоны и что в Петербурге на днях затевалось тайное общее собрание многих, разрозненных до той поры, членов этого братства. Он узнал, у кого и где именно это будет, и дал себе слово явиться туда. «Свободные мыслители, борцы и мученики за правду! Я им всё открою, всё расскажу… Возбужу в них негодование. Сольёмся, сплотимся для общего блага и ещё померяемся со слугами преисподней, с тёмными и злокозненными торгашами, наполняющими созидаемый нами священный Соломонов храм. Вон злых язычников, вон кощунных и наглых оскорбителей!».
В течение двух дней, после заезда на Каменный остров Мирович не решался явиться к Пчёлкиной. Голштинцы стушевались. Их брали под арест кучами и высылали на кораблях в Кронштадт и далее, за границу. Мирович знал, что общая неуверенность, а главное – пожар на даче Гудовича заставили Пчёлкину с Птицыными поспешно перебраться в город. Сознавал он и то, что ему необходимо, и чем скорее, тем лучше, побывать у Бавыкиной, которой он не видел с кануна переворота. Всё это он понимал хорошо и, между тем, как дезертир, не решаясь навернуться в город, безвыходно сидел в грязном деревянном домишке Галерной гавани, где Кондратий Андреевич Селиванов тайно приютился с ним у некоего, тоже безбородого, как и он сам, своего приятеля кожевника. Мирович им рассказал о своём прошлом, о претерпенных обидах и горестях своих предков и родителей, о бедных сёстрах, живших по людям в Москве и которых он восемь лет не видел, – и без движения, сгорбившись и задумавшись, сидел либо лежал в душной полутёмной «боковушке», где пахло рыбой и дублёными кожами. Забыв обо всём, о еде и питье, он думал мрачные, щемившие душу мысли и с холодной, неотвязчивой злобой прислушивался к шороху, топоту и затаённому говору за прокоптелой, чёрной стеной. А в соседней комнате, как порой смутно он разбирал, являлись, о чём-то толковали, спорили, а не то, возясь и как-то в лад топчась ногами, негромким, дрожащим голосом жалобно запевали какие-то неизвестные люди унылую, на церковный лад стихиру.