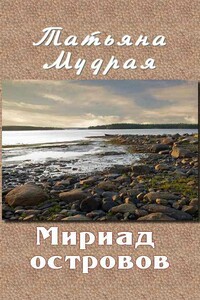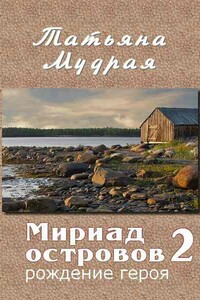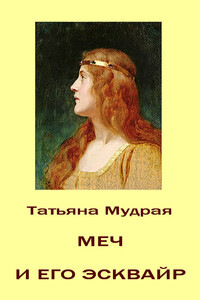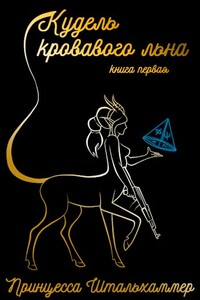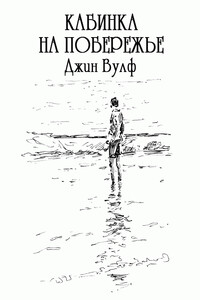— Соплеменник, мы ведь это на собственной шкуре проходили, — вмешалась Галина. — Одна из моих девчонок такова. Хотя со внуками ещё разобраться надо, для чего пригодны. А как зовут этих — твой брат… вернее сестра… в общем, твой бывший муж и король их супердельфинами звал.
— Хэархи. Tursiops sapientissimus khearchi, — Галина обнаружила, что во время беседы он машинально вычертил все три названия на песке острым концом ножен. — Вот они белые: не чисто, а наподобие снега в солнечный день. Или перемешанной радуги. Дамы практически неотличимы от кавалеров, по виду те и другие — подростки, их за детей и принимали те, кто не в курсе. Метра в два-два с половиной длины. Лоб крутой, но не как у рутенских афалин. Различие с большими и средними видами скорее качественное, чем количественное — если принять во внимание пропорции.
— И говорящие.
— Конечно, — он кивнул, потом ещё раз, куда глубже. — Внутри семьи — как бы звуковыми картинками со сложной семантикой. Иероглифами. С нами — так называемым «дальним языком», куда более примитивными одиночными свистами, в сопровождении сонанта или разрыва гортанной смычки. Каждый свист равен всего лишь фонеме. Так перекликаются стая со стаей — большие семьи, родоплеменные образования. Овладеть этим легче лёгкого — если ты ба-инхсан. Практически один и тот же мотив на разных инструментах.
— А ты умеешь?
— Чуть-чуть. До недавнего времени сквозил меж двумя мирами, достигнув в сем немалой виртуозности. К тому же хэархи имитируют здешний русский патуа.
— Как это?
— Говор. Окраинный диалект с лёгким налётом французского. Готия ведь.
«Ну, слава тебе, Господи. Я-то боялась, нас прямо в Елисейские Поля занесло».
— А теперь ты стал меньше путешествовать?
Вопрос Юлиану был задан из одной вежливости. Но он доложил обстоятельно — как обо всём:
— Ты, инья Гали, тоже будешь в России чужеземкой. Всё меняется куда как быстро — Москва и Питер слились окраинами, вместо шоссе и рельсов — сверхзвуковые коридоры и магистрали, леса изо всей Европы остались только в Финляндии — и никаких тебе биологических исследований. Кроме эпидемиологических широкого профиля. Главная жизнь переселилась на острова, умалилась или вообще утонула в море.
— Так печально?
— Да не скажу чтоб очень. Средневековый врач определил бы у каждого из них заразительную меланхолию, а в придачу бледную немочь, то есть неспособность к плодотворному соитию. В таком недуге есть известная доля благородства — смотри известную гравюру Дюрера.
На протяжении беседы, такой рассудительной, плодотворной и неспешной, Галине едва ли приходило на ум, что всё идёт не так, как предполагалось, напротив. Таков Вертдом: сеешь, где не собираешься пожинать, собираешь не свой урожай, а в целом выходит баш на баш.
Почему-то имя великого мастера породило в голове ряд иных экстравагантностей и выстроило из них хрупкую цепочку аналогий.
«В книге об Алисе тоже были гравюры, мрачные такие. И зубастая ухмылка Чеширского Кота. Сказочный Древесный Кот говорил о созданиях моря почти в тех же выражениях, что Юлиан. Только с упором на богоизбранность. Получается, мы прибыли к накрытому столу с готовой ложкой? Самое то, что прописал доктор… вернее, предсказал медноволосый ведьмин отпрыск?»
— Вы задумались, инья? — проговорил Фрейр.
— Уж очень много всего сразу и неожиданно, — словно извиняясь, ответила она. — В голове толком не умещается.
«Спросить, не рядом ли обретается его папаша. И заодно — младший из стального семейства, — торопливо прикидывала она. — Я думаю, мне ответят и даже направят на путь. Но нет, это будет неразумно — с чем мы явимся сейчас? И что более нужно нам самим — тупо выполнить или вообще не выполнить чужое задание или жить для себя — с пользой и удовольствием?»
— Люди — сущие пасынки разума. Вернее, мышления, — отозвался Юлиан. — Возвели в боги Слово, логос и логику, ограниченные пределами черепной коробки, а что говорит им всё тело в совокупности — понимать разучились. Даже низшие звери умеют слушать натуру, которая от них неотделима.
— Инстинкт? — спросила Галина. — Но это низкое…
— У них — тупой инстинкт, у высших животных — зрячая интуиция. Вертдомцы называют её корнем разумения. Она темна, как плодородная почва, и спутана в клубок наподобие корней, но ветвистое дерево мысли рождается лишь из неё.